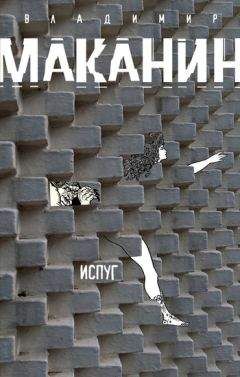И опять лежали в комнатной голубизне. (Вот только звук я не восстановил. Ей, она шепнула, хватит картинки.)
А они на картинке тоже времени не теряли: трудились! Они убеждали каждый каждого в своей правоте. Но, конечно, особенно яро они убеждали всех нас – напрямую с экрана, – мелькая там и промелькивая просветленными лицами – без единого, впрочем, звука и слова. Ах, как напористо, как зримо сменяли друг друга! И все же я не уловил, как там у них и у нас к концу вышло.
Меня отвлекло в сторону. В голубизне комнаты (и к экрану спиной) я напридумывал (помню) в эти минуты странную лунно-телевизионную реальность.
Вот какую: у нас здесь сложился свой очень изысканный «круглый стол». Я вникал – я отслеживал взгляды: этакую вязь четырех взаимно сплетенных и потаенных переглядываний (или даже подглядываний). Это был наш интим:
экран (знаменитыми лицами) уставился и, безусловно, смотрел (в обход моей спины) на нагую Лиду —
нагая Лидуся смотрела в основном на меня (на мое медлительно подвижное плечо) —
нагой я – на луну —
а нагая луна, завершая круг, уставилась прямо в голубеющий экран ящика – на мельканье там знаменитых лиц (обнажавших, по полной, свои души).
Засмеялась:
– Угадай, о чем я подумаю, когда буду заталкивать их бюллетень в щель?
Ну вот. Грубовата иной раз. (Имя её аукнулось.) Но, конечно, прощаю. Сам не лебедь.
– О чем?.. Угадай.
– Не знаю.
– А ты угадай!
– Наверное, о том, как твой кандидат втискивается в свой «ВОЛЬВО».
Она фыркнула:
– Вовсе нет.
– Ну, значит, как ты сама втискиваешь попку в узкую юбку.
– Нет! Нет!
– Значит, почтальон…
Я так и не угадал. Она хохотала:
– Какой глупый!
Смеялись оба мокрые – так крепко пробил нас трудовой чувственный пот. И оба шумно дышали. Лида-Лидуся, молодой бухгалтер, однако же и ей сердчишко давало знать!
Но только-только мне сладко подумалось о незаменимой в такие минуты чашке чая, как вдруг на стене заплясал луч. Свет… Фары машины… Я тотчас встал. Лидуся тоже. (Заметалась в темноте.) Спешно мы оба оделись.
Я – к их боковому входу-выходу, что со стороны веранды. Уйду садом.
Ее мужик… Уже года три, как он у Лиды, но в последнее время это похоже на финиш: отчаливает помаленьку наш мужичок куда-то в левую сторону. (Уже нечаст гость. Не балует Лидусю…) Открыл ворота. Ага! Въезжает… Закрыл…
Пока он там, на въезде, возится с воротами, мы прощаемся.
– Хорошо, что пришел… Поболтали, – говорит Лида. – Спокойной тебе ночи.
– Тебе вряд ли спокойная будет.
Она улыбается:
– Эт точно!
– Сейчас примется за тебя. Прямо с порога, а? Все по новой.
Она зевает:
– Э-а!.. Пусть его. Знаешь, девчонки в таких случаях говорят: второй – не первый!
Мы тихо смеемся.
Она:
– Он еще и телевизор, как ляжет, сейчас же включит. Новостями всегда интересуется.
И тут мы оба смеемся громче, чем надо бы.
Она:
– Тсс! С ума сошел…
Я шагнул в ночные запахи – шел садом. С глухим шуршанием (осторожно) ступал по траве. Вокруг всё были яблони, яблони… Разлапистые… Старые… Большие… Ни от кого не уходили и не бежали – деревья застыли в белесой лунной пыли.
Сад волнует. Я легко засмеялся… Я видел, что здесь, у деревьев, тоже свои выборы. Голосуют по старинке – сразу двумя руками. (Или даже тремя, четырьмя. Сразу всеми руками, сколько есть!) В полном согласии яблони, голосуя «за», вскидывали ветки к белому лунному свету.
Я думаю о природе вытянутых земляных ямок. Вырыты ямы лапами несильными, но быстрыми. Я вслух ругаю. (Пусть Олежка слышит.) Пяток, мол, яблонь да смородина, бранюсь я… Одна, мол, кривобокая слива. Участок мой мал. И если сюда повадился крот, столь малое пространство он изроет и изгадит своими кучками-ямками очень быстро.
Ямы… Ямки… Есть такие, что круто и сразу в землю. (Начинал крот рыть нору – начал и бросил. Но это какой-то огромный крот. Таких не бывает.) Вытянутые свежие ямки…
– У людей большие участки. Нахватали земли! Нахапали!.. А с чего дурачок крот повадился ко мне?
Я возмущаюсь и бранюсь, но больше для вида. Я заметил, что Олежка тоже заинтересовался ямами… Может, он заговорит?.. Обычно он курит, сидя на крыльце. Теперь вот пересел на чурбак, нагретый солнцем. Так он ближе к теплу и к небу. И поближе (глазами) к ямам.
Олежка курит молча, одну за одной. Его длинные худые пальцы на руках желты, а прокуренные ногти (указательного и среднего) черны. Бордово черны, как после промашки, после неловкого удара молотком. Не знаю, о чем говорить. Если ему замечу, что курит много, он меня пошлет. Груб. (Да ведь не бросит курить. Я бы, пожалуй, испугался, если бы он бросил. Не знал бы, чего ждать дальше!)
Иногда крот делает ложный ход. Вспарывает землю на виду. Вроде как он, крот, слишком высоко взял, ошибся… Длиной ямка почти в метр… Потом крот выбирает лапами землю, совсем неглубоко, получается удлиненная выемка… Войдет ведра три-четыре воды в такую выемку. Чтоб не рыл дальше. В мокрую не сунется… Не нужны мне его кротовьи фокусы.
– Сволочь какая! – бранюсь я.
А сам жду: пусть Олежка тоже скажет, хотя бы сволочнет крота. Я же заметил по глазам… Рытая земля его привлекает.
Я продолжаю рассуждать вслух: нарытые ямы от яблонь неблизко. Но не сегодня-завтра крот их корни достанет и поранит. Если уже их не достал!
– Это не крот.
Ага. Заговорил.
– Почему не крот?
Спросил, а сам заделываю эти странные раны земли. Кучки разравниваю… Пучки травы возвращаю на место… Сгребаю всё вновь в кротовьи ямки. Утрамбовываю, утаптываю ногой.
Вялый, отстраненный Олежка все-таки выдавил из себя объяснение:
– Это не крот. У крота – норы. Узкие норы. У крота, дед, лапы очень тесно поставлены.
– Где ты их видел? Кротов? – я обрадовался, но радость скрываю. Мой мальчик все же открыл рот. (Теперь он все чаще называет меня «дед» вместо «дядя». Это, кстати сказать, точнее. Да и роднее.)
– С окопом рядом. Там было полно кротов.
– Вы их ели? – Я втягивал его в разговор, не важно как.
– Ха. Поди поймай… И еще вот что: кроту все равно, какая под его лапами земля – с травой или без травы. Крот не видит… Крот чаще всего изнутри роет.
– Из-под земли.
– Да. А у тебя, дед, лапами выбирали землю, где помягче… Снаружи выбирали… Видишь?.. Это собака. Я думаю, собака. Лапами быстро-быстро роет… И не нора, а явно выемка… Собака!
Действительно, выемки. Я заметил их случайно. Поутру их выдала трава. Появились недавно, свежие.
Чья-то собака! А может, ничья… Я тотчас согласился с Олежкой. Я готов был говорить и говорить. У меня, Олежка, в заборе полно дыр. Собаке прошмыгнуть и попытаться зарыть здесь старую кость – самое оно! Без проблем!.. Олежка!
Но парень уже ушел. Не дослушал.
– Олежка?.. Будешь отдыхать?
Он не ответил. Пересел с чурбака опять на крыльцо. Вынул там сигарету. Закурил. На чёрта ему думать о моих ямах.
Сейчас лето, он без дела. Сломавшийся солдат не хотел ничего – ни думать, ни делать – и совсем не хотел работать. Он сменил за год уже десяток работ и мест службы. За столом, с дешевеньким калькулятором в руке… Или с лопатой, с ломом… Или на рынке, возле коробок с товаром… Но удержаться на месте не мог. Загадка шеи или загадка головы? Что у моего бедолаги уставало больше?.. Чуть что, и он клонил голову, отыскивая солдатской башке теплое местечко.
– Эй! – расталкивали его. – Ты что?
Но как ни толкай-ругай, через десять минут его голова опять опускалась, чтобы уткнуться, скажем, в колени. Или же опускалась на поверхность казенного стола. С тихим, но слышным стуком. Стучу башкой, дед. Сам о себе начальству докладываю.
Не высыпался ночами, вот и вся разгадка. Как он мог выспаться, если ночами беспрерывно мотал головой на подушке туда-сюда, да еще с какой энергией! С каким напором! Смотреть было не только неприятно – страшно. Однажды, вернувшись домой поздно ночью, я увидел эту молотьбу во всей красе. Я даже озлился. Ночью ведь забываешь как и что… Только стариковское раздражение… Хотелось дать по бесноватой башке. Пусть успокоится!
Звуки… Сначала я расслышал туда-сюда кач. Честно признать, я тогда подумал, Олежка кого-то привел и трахает. Наконец-то. Я даже порадовался за него… Пора ему!.. Шорк-шорк. Кач-вскачь. Но он лишь качал головой. Подушка влажная, мокрая (шея наверняка в обильном поту!), отсюда и мерный шоркающий, чавкающий призвук. Вдруг замотал головой с такой силой и страстью (именно страстью), словно хотел, чтобы она оторвалась и наконец перестала посылать ему (его шее) некие жуткие сигналы… Он подвывал. (В ту ночь я испугался.)
– Не пора ли поесть? – зову я.
Мы с ним – через поколение. Контакт слабоват. Но, как всякий старик, я надеюсь, что я излучаю для Олежки некий слабенький свет опыта. Как-никак я уже протряс свое тело по житейским дорогам, а он нет.
– Не пора ли есть, эй? – Но после долгого молчания мой голос почему-то негромкий.