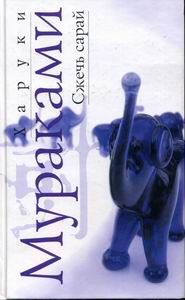Выскользнув в ванную, она вернулась в кимоно до пят, поглядывая на меня с непонятным торжеством, которое своей наивностью могло бы показаться трогательным, если бы она царственным жестом не сбросила мантию из драконьих хвостов, явив себя Афродитой из некой черной пены, поглотившей съеженные шкурки драконов. Но – если не иметь особых причин для снисходительности – в голом виде мы все довольно тошнотворные. Сиськи были, пожалуй, еще и ничего
(да и то со слишком черными боеголовками), зато худосочным бедрам лилово-лягушачьи разводы были совсем уж ни к чему. А что ягодицы у нее слишком заостренно стесаны, без аппетитной округлости, это было заметно и раньше. Плешивый жирный лобок
(черный, хотя она выдавала себя за рыжую) утопал под наплывающим тестом нетренированного живота. Когда любишь человека, еще можно закрыть глаза – если он сам не пихает себя тебе в нос.
Что меня и сейчас злит – она меня же и пыталась выставить в смешном виде, этаким Прекрасным Иосифом. Но главное – до чего же привыкла все выдирать силой!..
Покуда касса удостоивает размотать наш крендель, хельсинкская разрядка сменяется рейгановской зарядкой, а я успеваю одним глазком что-то все же и прочесть. Читать просто ради удовольствия – для меня такой же знак деградации, как отказ от физических упражнений. Но прежде я доискивался в книгах какой-то
“правды” – теперь же я прекрасно уяснил, что все духовное творчество – это бегство от правды, вернее, противостояние ей, самой главной правде о нашей незначительности в реальном мире, порыв возвести иную реальность, в которой ее создатель был бы значительным лицом – был бы если не Хозяином, то его сыном, другом, подопечным, на худой конец – личным врагом, а не просто случайной жертвой, подвернувшейся под бешеные жернова исполинской мельницы, мелющей пустоту.
Платон: реальность – тень, а мы на дружеской ноге с высшей
Подлинностью. Спиноза: бычье усилие воссоздать живопись посредством чертежа. Гегель: титанический подхалимаж, попытка придать высший смысл рассевшемуся на наших косточках куражливому
Скотству. Шопенгауэр: тщетная попытка нахамить ему же, слепоглухонемому… Всюду бегство от незначительности.
Израильская военщина захватывает Фольклендские острова. Я бреду через города, годы и климаты; туннели и эстакады сменяются морозом и жарой, мимо проносятся поезда и автобусы, советские люди многократно вдоль и поперек перекрывают Енисей, объявляют голодовку, требуя соблюдения Конституции, где-то открывают высокотемпературную сверхпроводимость, но – дураков нет: когда я начинаю оживать, а предметы – что-то означать, ушибает решительно все, все говорит об утрате – вчерашней или завтрашней. В этом подъезде я до смыкания разинутых мостов целовался с моей бедной исчезнувшей женушкой, вот в такой же твердыне чухонского модерна – с богатой, ворчливо-любящей в ту пору, – и такая взвивается симфония горя, любви, жалости, стыда!.. А в этот клуб я водил дочку… Но – дочка бьет живой болью, поддых, а не в нарыв за составной костью. Я никому и ничего не могу рассказать о ней, ибо это чистая боль, без проблеска красоты.
Внезапно на черной воде канала я вижу сразу две косо легшие друг на друга, совсем по-разному искаженные тени одной и той же достоевской (добужинской) решетки – и догадываюсь, что одна из них тень, а другая – отражение, – и вспоминаю, как в Алма-Ате полчаса не мог оторваться от дышащей узорчатой тени листвы на фонтанных струях. И сколько же этого золота утекло у меня между скрюченными от муки пальцами – и будет утекать, утекать, утекать, покуда не заструится сначала огонь, а потом земля.
Принимается продовольственная программа. Снова начинает разбаливаться голова, которую я даже носил показывать врачам
(“Какие боли – колющие, режущие, давящие, ломящие, жгучие, пекущие?” – поэты!), пока не понял, что лечить надо душу, точнее
– уничтожать, ибо единственная ее функция в боли и заключается.
К счастью, у меня было только два безупречных друга – лишь поэтому я еще жив. Абсолютная безупречность должна погибнуть еще в колыбели, ибо все живое выживает за счет уступок: отказаться от них означает переложить их на кого-то другого. Но перекладывать-то удается только на слабых… Один из них преуспел, его почитают или обходят. Другого не замечают или снисходят, ему удалось продавить удобные для себя вмятины только в собственной жене. Первому случалось оказывать услуги мне – я не знал, как и отблагодарить, – он указал мне, что я склонен услужать нужным людям. Другого я сам вечно утешал, кормил с ложечки, собственноручно стирая слюнявчики, – он открыл мне глаза на то, что я люблю изображать благодетеля. Что за глыбы: им не нужна любовь – обманный намек, что мы что-то значим, чем-то выделяемся из мира вещей…
Покуда ширится мор членов Политбюро, я опускаюсь в прихожей на бывший детский стульчик и до самой кончины Брежнева не могу собраться, чтобы развязать шнурки. Дочка точно так же когда-то садилась после детского садика, не в силах раздеться, – а мы все требовали от нее бодрости и деловитости.
По мере раздавленности я становлюсь все добрее и добрее, ударившему меня в левую щеку я прямо-таки сладострастно подставлю правую. Мама обнаруживает меня стекающим со стула, и, покуда Черненко борется с единственной подвластной коммунистам стихией – с литературой, а Андропов подтягивает дисциплину, устраивая облавы в банях и магазинах, она энергичными взмахами швабры стирает с окон решетки и намордники, с соседей и сослуживцев – каторжную полосатую робу, а из меня похлопываниями и оглаживаниями ваяет, как из теста, нечто человекообразное, прочерчивая на возникающем лице как можно больше горизонтальных линий (по перетеканию их в вертикальные она замечает надвигающееся Это даже раньше меня самого).
Я забываю решительно все хорошее, что можно обо мне сказать, а мама помнит и то, как одна противная тетка на свое
“деньрожденье” принесла на работу торт, а его никто не стал есть. Она так растерянно металась со своим угощением (и сейчас сердце сжимается), что я, изображая общий радостный гомон, съел целых три куска – потом весь вечер промучился тошнотой. В своей любви мама не менее тверда, чем праведники в своей беспощадности. Мы неудержимо стареем, но с каждым энергичным движением ее вдохновляющего насоса во мне расправляется и крепнет (хотя до прокурорского звона еще далеко) высший дар всего живучего – дар выносить миру собственные приговоры, а не гнуться под чужими, дар плевать на других, а не утирать чужие плевки. Дар, в совершенстве отпущенный лишь скотам…
Чтобы скрыть влажные следы благодарности, я утыкаюсь в мамины колени, она ерошит остатки моих волос, развеянных радиацией
Бессмыслицы. Оживая (превращаясь в животное), я начинаю ощущать не знаки, а предметы, не маму, а бедра: поглаживания мои из благодарных становятся алчными. Когда мама обнаружила, что эротический шок приносит мне облегчение, она сделалась потрясающей любовницей – она изумительно делает все, что нужно близким: хоть пироги, хоть уколы, хоть… Я боюсь только собственной капризности – меня может царапнуть любая мелочь, а взбешусь я по-настоящему уже из-за того, что меня задевает такая ерунда. Приходя в себя, с бесследно разорвавшейся черной дырой
(осколки начнут шлепаться обратно минут через двадцать), я касаюсь маминой кожи виноватыми поцелуями: мне неловко, что я втянул чистого, доброго человека в какие-то нечистые делишки.
Правда, когда я начинаю к ней подкатываться в сносном настроении, подразвлечься, так сказать, она и это сразу просекает: “Не надо есть от скуки. Ведь это же любовь!” Я пристыженно отступаю – с червячком сомнения: неужели это и правда любовь?..
Иногда я на целые недели набираюсь животворящей (творящей из людей животных) простоты – дара видеть только близкое и понятное, – но тоска все равно берет свое: сначала слабость в коленях, потом холод в животе, потом сердце от воробьиного чиха начинает трепыхаться с такой безудержностью, что я не могу ответить на пустячный вопрос по телефону… И ведь никто не поверит: все же видели, как энергичное тело, выдающее себя за меня, через три ступеньки взлетает по лестнице, когда душе почему-то вдруг вздумается его покинуть. Зато никто не видит, как я медленно погружаюсь на дно…
Однажды мы с Марком Розенштейном, за сходство с юным Осей
Джугашвили носившим кличку Сосо, очень весело отстояв за стипендией, отправились на “Обыкновенный фашизм”. Народишко протоптанной тропкой тянулся по льду от Двенадцати коллегий к
Медному всаднику, а я решил закоротить к рыдающим львам у
Дворцового моста. Морозный снег сверкал так, что зеленело в глазах, когда моргнешь. Я, разумеется, шел впереди, но, когда сыпучий кристаллический ковер взъерошился встряхнутым калейдоскопом накрошенных ледоколом льдин, шутливая приподнятость сменилась спортивной внимательностью. Я старался наступать на верхушки ледяных трамплинов, уже высматривая пару следующих. Вдруг трамплин хрустнул – но я уже был на другом, оглядывая заснеженный каточек, который я перемахнул. “Пошли назад”, – по-доброму предложил Сосо. Я сделал шаг обратно, чтобы не прыгать, не доламывать, – каточек в мгновение ока исчез в черной, не такой уж ледяной воде. Я успел упасть на локти на уцелевший край. Сосо засуетился со своим портфельчиком – но я мощным ударом хвоста выбросил себя на берег.