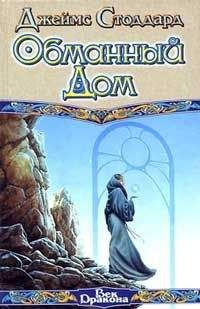Милиционеры в «уазике» смеются, им весело, и человек в старом «Лэндровере» не сразу догадывается, чего тут смешного.
По краю, по обочине, на старом, дурацком, неуклюжем велосипеде что есть силы улепетывает от милиционеров таджик в трениках, с очумелым от испуга и натуги лицом.
Милиционеры едут медленно-медленно, забавляясь погоней, ожидая, что таджик вот-вот выбьется из сил или навернется на своем убогом драндулете.
«Лэндровер» обгоняет «уазик» и останавливается, перегородив ему дорогу.
Милиционеры тормозят резко.
Таджик грохается с велосипеда.
Человек из старого «Лэндровера» говорит убедительным, звучным, профессиональным голосом:
— Молодые люди!
Милиционеры начинают общаться с человеком на «вы», но матом.
Человек называется и произносит краткую проповедь о том, что нельзя преследовать того, кто заведомо слабее тебя, и прочую прокисшую христианскую дребедень. Милиционеры хмуро внимают, явно слыша об этом впервые. Нехотя соглашаются. А ну его, волосатого этого, мало ли… Велят таджику зарегистрироваться как положено. Отчаливают на дальнейшие подвиги.
Таджик сидит у обочины, пытаясь выправить покривившийся руль своей каркалыки.
— Тебя как звать?
— Леха.
— Алексей?
— Ну. Дед назвал. У него друг был, русский, Леха. Фашистов вместе били.
— Хорошо по-русски говоришь.
— Дед учил. Он в Россию переселиться хотел, а умер. Мы из Куляба.
— Работаешь здесь?
— Дачу за тем лесом строим.
— Ты, Леха, женись здесь. Есть кто на примете?
Таджик смеется и уклончиво качает головой. Видно, что он совсем молодой, лет восемнадцати.
«Лэндровер» уезжает, и видно в зеркальце заднего вида, что таджик кланяется ему вслед, прижимая руку к груди.
Старый «Лендровер» сворачивает с трассы под стрелочку и на ощупь, наугад пробирается по дачной местности. Неузнаваемо. Кирпичные заборы, камеры слежения.
Кажется, сюда…
Да, а тут наоборот, ничего не изменилось.
Огромная елка у деревянных ворот. В щели между досок напиханы цветные листовки риелторских контор. Бревенчатая старая дача.
На веранде рослая старуха, старик в кресле на колесиках и маленькая беременная старушка.
Да, похоже, что старушка и что беременная. Или девушка как старушка? Да нет же, точно, старушка. Стесняется. Гладит живот.
Маркес какой-то… С Кафкой пополам.
— Здравствуйте, Зоя Константиновна.
Рослая румяная старуха, голова едва заметно, мелко трясется, а взгляд все тот же — гневный, возмущенно вытаращенные глаза.
Базед.
Ничуть не удивилась и сразу узнала.
— А!.. Федя! Или как вас теперь называть? Святой отец! Видели, видели вас по телевизору…
В доме старая, сороковых годов, мебель, большая, для гигантов, и тяжелая, прочная, чтобы на века. Для вечных гигантов. Кожаный диван с железными заклепками, огромный буфет.
— Но я должна с вами не согласиться, уважаемый святой отец, в том пункте, который касается…
— Зоя Константиновна, я приехал поговорить с вами о вашем сыне.
Пауза.
— У меня нет сына, — отчеканила старуха. — У меня нет сына! — крикнула она.
— Послушайте, Зоя Константиновна. Он тяжело болен, жизнь его не сложилась, у него нет никого, кроме вас. И если бы он вернулся…
— Ах, вернуться! Он собирается вернуться! Какое счастье! Скажите, пожалуйста! А когда он уезжал, он не думал, что у него нет никого, кроме меня? Он предал меня! Опозорил! Внук профессора марксистко-ленинских наук! Старого большевика! Он предал Родину! Женился по расчету, чтобы бежать из страны! Тоже мне, диссидент выискался! Да ему очереди за гнилой морковкой надоели, вот вам и диссидент! Бежал в те самые трудные годы! Конечно, хочет вернуться! Еще бы! Сейчас, когда все позади… Когда улучшается демографическая ситуация, когда валовый продукт… Когда наш президент и премьер-министр, рука об руку…
Со старого буфета безглазо таращится темно-желтый человеческий череп.
— У вас череп на шкафу, — тихо сказал батюшка.
— Да! — гордо подтвердила старуха.
— Это нехорошо.
— А что, есть примета? — заинтересовалась она.
— Про примету не знаю. Но держать в доме череп… Поверьте, это нехорошо. Я это вам сейчас не как священник говорю, а просто… По-человечески. Его бы похоронить.
Старуха перевела дыхание.
— Это череп фронтового товарища моего отца. Товарища по Гражданской. Светлого человека, мечтателя. Он завещал свой скелет сельской школе, для изучения и вскоре был убит белыми. Скелет остался у моего отца, но после всех треволнений, мытарств, переездов остался только череп. И пока я жива, он будет здесь!.. Потому что у меня есть убеждения, есть принципы! Мы не такие, как это ваше поколение, готовое при удобном случае сменить комсомольский билет на сутану, или как там это называется, ваша спецодежда…
Куснуть норовит, обидеть. Спросила бы лучше, как там Вася. Вася родил Федю, но вас, бабушка с принципами, это совсем не касается.
Дальнейшие переговоры бессмысленны ввиду крайней болезненности предмета дискуссии и полной невменяемости оппонента.
Кричит, брызжет слюной…
— Извините. — Батюшка вышел.
— Здравствуйте, это отец Федор.
— Ой, здрасьти, здрасьти, батюшка! Ну что? Были?
— Был. Абсолютно невменяема. Про Число, то есть про Костика, слышать не хочет, ругается. Честно говоря, слабо себе представляю, что в случае своего возвращения он сможет на нее рассчитывать.
— Тогда я поеду в Америку.
— Зачем?
— Чтобы поддержать его. Чтобы сказать ему «ты еще ого-го».
— Какое «ого-го»? Вы о чем?
— Потому что если человеку, у которого там рак или СПИД, сказать, «ты еще ого-го», ему станет лучше, если, конечно, он раньше не умер.
Сумасшедшая или издевается? Писатель, блин пасхальный…
— Вы извините, мне надо идти.
— Да, конечно, батюшка, извините, что отняла ваше время, батюшка, спасибо, батюшка. А Дашенька? Еще там?
— Дашенька — это кто?
— Череп. У Костиного дедушки, старого большевика, была подруга-учительница, ее убили кулаки в деревне. А череп у них на шкафу всегда стоял. Ну, до свидания, батюшка.
«Дашенька!..»
Вспоминает вдруг батюшка…
И принимается думать, говорить ли обо всем этом матушке.
«Нечужие ведь все люди, вот дело в чем, так уж вышло. Старший сын Числа считает отцом батюшку, американский сын Числа считает отцом еще какого-то хорошего человека, сам Число сидит в заокеанском дурдоме для бедных, на буфете у его непримиримой мамы красуется череп убитой учительницы, а эта, типа писатель, уже стоит в очереди за билетом в Нью-Йорк, чтобы сказать ему «ты еще ого-го»…
И ни в какой я ни в очереди.
Я у себя, на крылечке, с ноутбуком. И пальто перевешено в кладовку, чтобы не слышать его нытья про море.
Просыпаешься рано, просыпаешься от счастья — ведь сегодня суббота, значит, приедет мама!
Так, встаю и немедленно за дела — везде, во всем доме влажную уборку.
Быстро на велик, сгонять на высоковольтную — там на просеке ромашки вот такие огромные, набрать побольше и везде, везде поставить. У забора, в дальнем углу участка поспела лесная малина. Собрать маме кувшинчик. Правда, там такая высокая трава, не видно, на что наступаешь, и кажется, что внизу кто-то ползает, но если в резиновых сапогах, то можно потерпеть.
Ведь мама приедет!
И когда все сделано, можно переодеться во все самое-пресамое и выйти к шлагбауму, встречать маму.
Шлагбаум — ржаво-полосатая каркалыка, преграждавшая путь в наш поселок незваным автомобилям и шумным компаниям. Железная доска с надписью «ДСК «Советский писатель». Тихо! Писатели работают».
При шлагбауме — деревянный домик, в домике сидит дежурный. Обычно это страдающий от вынужденной трезвости дед из фабричных или деревенских. Или шлагбаумщица Таня, добрая женщина с фабрики, приходящая на дежурство с двумя собаками — Цыганом и Ночкой, иногда впадающая в запои и исчезающая на несколько дней, но, главное, приветливая, всегда готовая перемолвиться со мной словом.