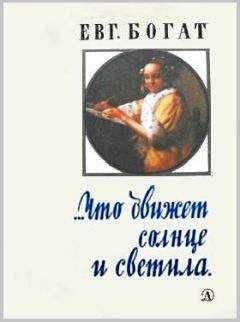Прекрасные дни, которые мы провели с вами здесь, сменились непогодой; в самый вечер вашего отъезда погода изменилась и по случайности, не обычной в это время года, не проходило дня в течение всей недели, чтобы не слышны были раскаты грома. Гроза надвигается и в настоящую минуту; мне нравится величественный мрачный характер, который она придает окружающей природе; но если бы вид ее был ужасен, она не внушила бы мне чувства страха. Явления природы, заставляющие бледнеть, падать духом слабого, на чувствительного человека, поглощенного великими интересами, производят лишь относительное впечатление, всегда менее потрясающее, чем те, которые происходят в его собственном сердце.
Письмо это написано 8 октября 1790 года. Через двадцать дней она ему писала:
…Бывают такие разлуки, в которых расстояние не имеет почти значения… Что представляет пространство для друзей?
И, как бы боясь, что личным она отвлекает от революции, она пишет:
Великие интересы общественного дела представляют достойные предметы для вашей деятельности. Патриоты должны поддерживать священный огонь…
В ноябре 1790 года Банкаль уехал в Англию, их переписка делается реже. 11 февраля 1791 года она уведомляет его, что едет с мужем в Париж.
…Я буду откровенна и признаюсь вам даже, что обстоятельство это вызывает во мне раскаяние в том, что я убеждала вас поскорее возвратиться из Англии. В этом положении есть бесконечно много оттенков, которые живо чувствуются, но не могут быть выражены словами. Но одно ясно, и это я вам откровенно выскажу, — я бы не желала, чтобы вы когда-либо руководствовались в вашем образе действия временными соображениями и частными привязанностями. Помните, если мне нужно счастье друзей моих, счастье это (для тех, которые думают и чувствуют, как мы) обуславливается полной безупречностью. Вот точка, где мы, надеюсь, всегда встретимся, и она настолько возвышенна, что мы можем соединиться в ней, несмотря на превратности мира.
Романы в письмах живут лишь в письмах. После переезда Роланов в Париж в ее отношениях с Банкалем исчезают романтические оттенки и углубляется общность политического мировоззрения.
Они по-прежнему обмениваются письмами, когда он уезжает из столицы по делам революции в те или иные департаменты, но это уже чисто политическая переписка. Она не стала менее романтической, нет; она пишет ему о пламенной любви к добру, об «отважной твердости духа, которая сокрушает невзгоды судьбы», но так же, как раньше, в деревенский период ее жизни, Монтень и Плутарх жили «под пеплом» (ее собственное выражение тоже из писем мирного сельского времени), так же теперь «под пеплом» живет и тайная жизнь ее сердца. До встречи с Бюзо… (К нему обращено то письмо перед казнью, с которого мы начали рассказ об этой женщине.)
Франсуа Николай Леонард Бюзо был деятелем партии Жиронды, близким к Ролану.
Это был самый тяжелый период ее жизни — и потому, что Французская революция вошла в ту трагическую полосу массового террора, когда стала, подобно мифическому Сатурну, пожирать собственных детей, и потому, что любовь-страсть к Бюзо вызвала в ней мучительную борьбу с пониманием нравственного долга перед мужем.
В мемуарах, написанных накануне казни, она рассказывала, что после ареста испытала радость от того, что теперь любовь может не бороться с ее нравственным «я».
Мари Ролан, кажется мне порой, создана гением Стендаля[8]… Она напоминает его героев величием души, нравственной чистотой, мужеством, возрастающим в минуту опасности. Напоминает она героев Стендаля и одной совершенно замечательной чертой: подобно Жюльену Сорелю из «Красного и черного» и Фабрицио из «Пармской обители», она в тюрьме узнает полноту и покой любви…
То бесценно-человеческое, что вкладывал Жюльен Сорель, обращаясь к госпоже Реналь во время их встреч после суда, ту надежду и ту страсть, что были во взглядах Фабрицио, когда он из башни высокой темницы наблюдал за Клелией, ухаживающей за канарейками, — все это Мари Ролан вкладывала в письма к Бюзо из тюрьмы.
Не жалей меня, — писала она ему, — в моем одиночестве я ближе к тебе, чем прежде. Благодаря лишению свободы я могу пожертвовать собой мужу и всецело принадлежать тебе, согласуя любовь с чувством долга.
Четыре дня назад мне удалось достать твой портрет, который по какому-то суеверию я не хотела брать с собой в тюрьму… Он спрятан ото всех взглядов… Мне не верится, чтобы судьба предназначала одни испытания чувствам столь чистым и достойным ее покровительству. Мысль эта дает мне силу выносить жизнь и спокойно ожидать смерть. Будем же с благодарностью пользоваться теми благами, которые даны нам. Кто умеет любить так, как мы, тот способен на великое, тот получает награды за самые тяжелые жертвы, возмездие за все горести.
Упоминая о Ролане[9], она пишет, что освобождение из тюрьмы возобновило бы узы, соединяющие ее с мужем. И узы, возлагаемые возвышенным пониманием долга, тяжелее тюремных оков, страшнее эшафота.
Ты не можешь представить себе, — говорит она Бюзо в одном из самых странных писем к нему, — как привлекательна жизнь в тюрьме, где не требуется тяжелых нравственных жертв, где можно отдаться влечениям сердца, где ревнивый взгляд не следит за выражением чувства. Возвратившись к истине, можно, не оскорбляя прав или привязанностей кого-либо, обрести духовную независимость среди кажущейся неволи… Независимость эту я не позволяла себе искать ценою счастья другого, — счастья, которое было так трудно мне поддерживать. Я принадлежу лишь тому, кто любит меня и кто достоин моей любви. Продолжай начатое дело, будь полезен Отечеству, — каждое из твоих деяний внушает мне радость и гордость.
По воспоминаниям современников, в повседневности тюрьмы (а в тот период революции тюрьма, к сожалению, стала трагической повседневностью) Мари Ролан вела себя с тем же достоинством, что и в обыденной сельской жизни. Она и тут была лекарем-утешителем.
Утешала она и Бюзо в последнем письме к нему.
Ее везли к месту казни в осенний, ненастный ноябрьский день. Повозка с осужденными медленно тянулась по набережной мимо дома, где некогда жили родители Ролан…
Ролан, узнав о ее конце, ушел в лес и там вонзил себе нож в сердце…
Через несколько месяцев покончил с собой и Бюзо; тело его было полусъедено волками.
В 1820 году вышло издание мемуаров Мари Ролан, написанных в тюрьме. Их читал Стендаль, он не мог не полюбить эту женщину, хотя ее жизнь и опровергала одно из его суждений — суждение о том, что человеческое сердце с наибольшей полнотой раскрывается в любви, когда оно не может раскрыться в иных, менее интимных сферах.
Но думаю, что Стендаль с его склонностью увлекаться всем удивительным, необычайным в истории человеческих душ, тайно радовался этому опровержению.
Когда после стихов и поэм Байрона обращаешься к его письмам, разрозненным мыслям, отрывочным записям, удивляет отношение поэта к тому, что, казалось бы, должно составлять высший смысл его жизни, — к литературе. Он никогда не говорит о ней с почтением и серьезностью, которыми отмечены подобные высказывания его великих соратников по перу. Байрон о ней пишет как о чем-то второстепенном, чему вынужден он отдавать время от времени силы ума и души, потому что они, увы, лучшего воплощения не нашли в мире, из которого уходят великие характеры и великие страсти. Он мечтал о действии…
«Действия, действия, — говорю я, — а не сочинительство, особенно в стихах!» — восклицает он на двадцать шестом году жизни, написав уже первые песни «Паломничества Чайльд Гарольда» и восточные поэмы, давшие ему мировую известность. О нем говорили и писали в европейских столицах и даже — в тот «медлительный» век! — на острове Ява (что забавляло его особенно), а он завидовал лондонскому боксеру Криббу (кто помнил бы сегодня о нем, если бы «зависть» Байрона не обессмертила его?), завидовал тому, что Крибб участвовал в морских боях. «Большой человек!» — по-детски серьезно пишет о нем Байрдн.
Он завидовал тем, кто участвовал в морских боях, терпел кораблекрушения, открывая новые пути и земли, тем, кто отважно воевал, освобождая народы от рабства. Рядом с этими великими действиями кажется ему жалкой судьба созерцателя, жизнь «рифмача»! Он любил Сервантеса, Тассо, Данте, Эсхила, Софокла за то, что они, не довольствуясь литературой, были доблестными деятелями и воинами.
«…Я еще покажу себя — не в литературе, это пустяк», — писал он в 1817 году из Венеции в Англию, которую перед этим с разбитым сердцем покинул. И обещал: «Я совершу нечто такое, что, как сотворение мира, задаст великую загадку философам».