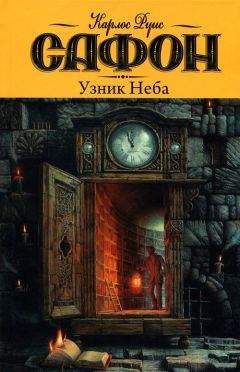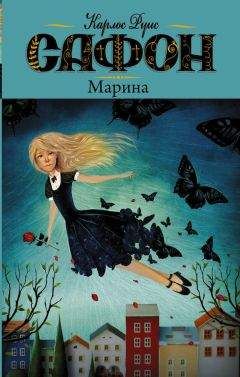Исаак погрузился в глубокое молчание. Я не смел дышать. Через какое-то время он поднял взгляд и улыбнулся мне:
— То, о чем я рассказываю, случилось — шутка сказать — аж пятьдесят пять лет назад. Но, честно говоря, дня не проходит, чтобы я не вспомнил о ней, о наших прогулках до самых развалин Всемирной выставки 1888 года, и о том, как она смеялась надо мной, когда я читал ей стихи, написанные в подсобке магазина колбас и колониальных товаров моего дяди Леопольдо. Я даже помню лицо цыганки, которая гадала нам по руке на пляже Богатель и обещала, что мы будем неразлучны всю жизнь. По-своему она была права. Что тут скажешь? Ну да, я думаю, что Нурия все еще вспоминает о нем, хотя ни за что в том не признается. И этого я Караксу никогда не прощу. Вы-то еще слишком молоды, а я знаю, как бывает больно от таких историй. Если хотите знать мое мнение, Каракс был сердцеед. И сердце моей дочери он унес с собой в могилу или в преисподнюю. Прошу вас только об одном. Если вы ее увидите и будете говорить с ней, потом расскажите мне, как она. Разузнайте, счастлива ли. И простила ли отца.
Незадолго до рассвета, держа в руках масляную лампу, я снова бродил по лабиринтам Кладбища Забытых Книг. Оказавшись там, я представил себе дочь Исаака, проходившую по тем же темным, бесконечным коридорам, с той же целью, что вела меня: спасти книгу. Сначала мне казалось, я помнил путь, которым следовал во время своего первого посещения, когда отец вел меня за руку, но вскоре понял, что повороты лабиринта обращали коридоры в спирали и запомнить их невозможно. Трижды пытался я пройти путем, который, как мне казалось, помнил, и трижды лабиринт возвращал меня на точку старта. А там меня ждал улыбающийся Исаак.
— Вы хотите вернуться когда-нибудь за книгой? — спросил он.
— Разумеется.
— Тогда, наверное, стоит пойти на хитрость.
— Что за хитрость?
— Молодой человек, до вас, кажется, с трудом доходит. Вспомните о Минотавре.
Мне и в самом деле потребовалось немного поразмыслить, чтобы понять его намек. Исаак между тем извлек из кармана видавший виды перочинный нож и протянул его мне.
— На каждом повороте лабиринта делайте засечку, но такую, чтобы только вы сумели ее опознать. Дерево тут старое, на нем столько царапин и надрезов, что никто ни о чем не догадается, разве только тот, кто знает, что именно ищет.
Я последовал его совету и вновь углубился в сердце хранилища. На каждом повороте пути я останавливался, чтобы нацарапать на стеллаже буквы «к» и «с» с той стороны, в какую шел. Минут через двадцать я перестал ориентироваться во внутреннем пространстве башни, и нашел место, где собирался спрятать книгу, по чистой случайности. Справа от себя я увидел стройный ряд корешков вольнодумных книг, принадлежавших перу достославного Ховельяноса.[22] Мне, подростку, казалось, что подобный камуфляж мог сбить с толку кого угодно. Я вынул несколько томов и исследовал второй ряд, сокрытый за гранитным монолитом прозы первого. Среди прочих, насквозь пропыленных знаменитостей, там было несколько комедий Моратина, пламенный «Куриал и Гвельфа»,[23] и невесть откуда взявшийся «Tractatus Logico Politicus» Спинозы. По наитию я решил втиснуть Каракса между ежегодником судебных протоколов провинции Жерона за 1901 год и собранием сочинений Хуана Валера. Чтобы расчистить место, я вытащил сборник поэзии Золотого века, сильно мне мешавший, и поставил на его место «Тень ветра». Прощаясь с книгой, я ей дружески подмигнул и восстановил внешний ряд стеной антологии Ховельяноса.
На этом церемониал захоронения был завершен, и я ушел, следуя засечкам, оставленным по дороге. Проходя в полумраке мимо нескончаемых рядов книг, я не мог отделаться от грусти и досады. Меня преследовала мысль о том, что, если я открыл для себя целую Вселенную в одной дишь неизвестной книге среди бесконечности этого некрополя, десятки тысяч других так и останутся никем не читанными, забытыми навсегда. Я чувствовал себя окруженным миллионами стертых из людской памяти страниц, планетами и душами, оставшимися без хозяина, уходящими на дно океана тьмы, в то время как пульсирующий за этими стенами мир день за днем беспамятел, не отдавая себе в том отчета и считая себя тем мудрее, чем более он забывал.
Я вернулся на улицу Санта-Ана с первыми проблесками зари. Тихонько открыл дверь и проскользнул в дом, не зажигая света. Из прихожей была видна столовая в конце коридора и стол, все еще по-праздничному сервированный. На нем стояли нетронутый торт и парадный сервиз в ожидании званого ужина. Неподвижный силуэт сидевшего в кресле отца четко вырисовывался на фоне окна. Он не спал, и на нем был все тот же выходной костюм. Кольца дыма лениво плыли над сигаретой, которую он, словно ручку, зажал тремя пальцами, указательным, средним и большим. Уже много лет я не видел, чтоб мой отец курил.
— Добрый день, — сказал он негромко, гася сигарету в пепельнице, почти полной едва начатых окурков.
Я смотрел на него, не зная, что сказать; лицо отца оказалось в полумраке, и я не видел его глаз.
— Вечером несколько раз звонила Клара, часа через два после того как ты ушел, — сказал он. — Она очень беспокоилась. Просила передать, чтобы ты ей перезвонил, во сколько бы ни вернулся.
— Я не намерен ни видеться с ней больше, ни говорить с ней, — отозвался я.
Отец ограничился молчаливым кивком. Я рухнул на первый подвернувшийся стул. Мой взгляд уперся в пол.
— Расскажешь, где ты был?
— Там.
— Ты насмерть меня напугал.
В его голосе не было гнева, даже упрека, одна усталость.
— Знаю. Прости, — ответил я.
— А что у тебя с лицом?
— Дождь… Я поскользнулся и упал.
— У этого дождя очень неплохой хук справа. Приложи что-нибудь.
— Ерунда. Я и не чувствую, — соврал я. — Мне бы поспать. Я еле на ногах держусь.
— Прежде чем отправишься в кровать, разверни хотя бы мой подарок, — сказал отец.
Он указал на сверток, что накануне торжественно водрузил на обеденный стол. Какое-то мгновение я колебался. Отец ободряюще кивнул. Я взял сверток, повертел его в руках, и, не открыв, протянул отцу.
— Лучше верни его. Я не достоин никаких подарков.
— Подарки делаются от души того, кто дарит, и не зависят от заслуг того, кто их принимает, — вздохнул отец. — Кроме того, его уже нельзя вернуть. Разворачивай.
В неверном свете первых лучей зари я разорвал красивую упаковку. В свертке была шкатулка полированного дерева, блестящая, с золочеными уголками. Улыбка озарила мое лицо еще прежде, чем я ее открыл. Щелчок замка показался мне столь же изысканным, как бой лучших в мире часов. Внутри шкатулка была отделана темно-синим бархатом. И посредине, сияя, лежала вожделенная «Монблан Майнстерштюк» Виктора Гюго. Я взял ручку и поднес к свету, проникавшему с балкона. Над золотым зажимом колпачка было выгравировано:
Даниепь Семпере, 1953
Я был потрясен. Никогда еще я не видел отца таким счастливым, каким он показался мне в этот миг. Не тратясь на слова, он просто встал из кресла и крепко меня обнял. Что-то сдавило горло, и, не имея возможности произнести ни слова, я тихонько застонал.
ХАРАКТЕР — ЭТО СУДЬБА
1953
В тот год осень накрыла Барселону воздушным одеялом сухой листвы, которая, шурша, змеей вилась по улицам. Воспоминание о злополучном дне рождения охладило мне кровь, а может, сама жизнь решила подарить мне отдохновение от моих опереточных страданий и дать возможность повзрослеть. Я сам себе удивлялся, поскольку лишь изредка вспоминал о Кларе Барсело, Хулиане Караксе и том пугале, пропахшем горелой бумагой, — человеке, который сам себя считал персонажем, сошедшим со страниц книги. В ноябре, через месяц после всего происшедшего, я даже не предпринимал попытки приблизиться к Королевской площади и уж тем более не пытался улучить возможность увидеть в окне силуэт Клары. Впрочем, должен признать, в том была не только моя заслуга. Дела в магазине шли бойко, и мы с отцом буквально сбивались с ног.
— Надо нанять кого-то в помощь, вдвоем мы с тобой не справимся с заказами, — твердил отец. — Причем нам нужен не просто знающий человек, но полудетектив-полупоэт, который бы не требовал много денег и не боялся непосильной работы.
— Думаю, у меня есть подходящая кандидатура, — ответил я.
Я встретился с Фермином Ромеро де Торресом в его обиталище, под сводами улицы Фернандо. Бродяга складывал из обрывков, извлеченных из урны, первую страницу «Оха дель Лунес». Передовая статья, судя по иллюстрациям, была посвящена общественным работам и развитию страны.
— Ну вот, очередное водохранилище! — услышал я. — Эти фашисты, мало того что воспитывают из нас усердных богомольцев, хотят заставить нас плескаться в воде, как лягушки.[24]