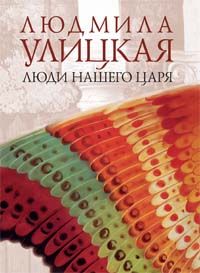Так прошел год, и другой. Танина мама забеспокоилась: уже перевалило за двадцать пять, и никого, кроме неудачного Сережи, не было у красавицы дочери. Хоть бы не замуж, хоть бы так кого завела. Ничего подобного. Рабочий день по вредности биохимической работы кончался рано, в четыре Таня уже была дома, ложилась спать, к шести вставала, убиралась, готовила всегда одну и ту же еду, борщ и котлеты, и либо садилась у телевизора, либо уходила с подругой Мнацакановой в кино. Мать, женщина одинокая, но с постоянными любовными приключениями, не поощряла такого образа жизни. Даже пыталась Таню знакомить то с начальником цеха с завода, где сама работала, то с одним человеком, которого завела на отдыхе, на юге, но по какой-то причине не использовала по назначению. Таня сердилась на мать и даже высокомерно отчитала ее:
– Мам, да таких мужиков, как ты мне подсовываешь, полные троллейбусы, таких-то я могу завести хоть дюжину.
– Вот и заведи,- порекомендовала мать.
– А зачем?- холодно спросила Таня.- Им всем одного надо.
Мать обиделась и немного рассердилась:
– А ты что, особая? Тебе не надо?
Таня посмотрела васильковыми глазами, прикрыла их своими рекламными ресницами, покачала головой:
– Нет, мне такого не надо.
– Ну и сиди с кошкой,- вынесла мать приговор.
И Таня сидела с кошкой.
«Кошке нет дела до красоты, ей важна душа»,- думала Таня.
Понемногу Таня толстела, бледнела. Из тонкой девушки превратилась в молодую женщину, еще более притягательную для мужского глаза: талия оставалась тонкой, бедpa-груди раздались, а руки-ноги легкие, детские,- зрелый кувшин, только пустой…
И все толстела, и все бледнела, и плавности, и медлительности прибывало, и походила уже на Симону Синьоре в возрасте.
Мужчины в транспорте приглашали к знакомству уже не каждый день, как прежде, и Таню этот угасающий интерес, как ни странно, немного огорчал. Все-таки на дне ее души лежала почти похороненная надежда, что встретится человек, который не обратит внимания на обертку из красоты, не захочет завладеть поскорее ее телом, а будет любить именно ее самое.
Способности Тани, которые всегда были средними, как-то возросли на работе. Очень медленно она постигала не основы профессии, а ее тонкие тайны. Даже украдкой почитывала книги по биохимии. Правда, пришлось сначала повторить тот маленький курс, который давали в медучилище. Она была, несомненно, лучшей из четырех лаборантов в своей лаборатории. Работала, не торопясь, даже медлительно, а получалось все быстрее, чем у других. А по забору крови из вены она вообще стала главным специалистом, ее даже вызывали в другие отделения, когда попадались особенно трудные вены.
Борис пришел сдавать кровь в понедельник, первым по записи. Вошел, высокий, красивый, в свитере и с палочкой, и остановился возле двери.
– Здравствуйте, мне кровь сдать.
Смотрел прямо перед собой. Таня не сразу догадалась, что он слепой. Потом усадила на стул, попросила закатать рукав. Игла легко вошла в тонкую вену. Попала с первого раза. Подставила пробирку.
– Вот и хорошо.
Борис удивился:
– Да вы мастер! Мне с первого раза никогда не попадают. Говорят, вены плохие.
– Почему же? Хорошие вены, только тонкие.
Он засмеялся:
– Так все говорят,- плохие, потому что тонкие…
– Не знаю… Честно говоря, это единственное, что я хорошо делаю,- почему-то сказала Таня.
– Это не так уж мало,- сказал, повернул голову в ее сторону и улыбнулся.
«Может, он все же немного видит,- подумала Таня.- Неужели улыбнулся просто так, одному моему голосу?»
Он немедленно подтвердил:
– У вас голос очень хороший. Вам, наверное, сто раз говорили?
Ей никогда этого не говорили. Говорили, что глаза, лицо, волосы, ноги… а про голос никогда не говорили.
– Нет, такого никогда не говорили.
– Есть вещи, которые начинаешь замечать только тогда, когда становишься слепым,- сказал он и опять улыбнулся.
Улыбка у него была совсем особая,- неопределенная и не наружу обращенная, а внутрь.
Пробирка наполнилась, Таня поставила ее в штатив, прилепила марлевую салфетку к ранке.
– Все.
– Спасибо.
Он встал со стула, повернулся лицом к двери. Палка была у него в левой руке, а правую держал, согнув в локте, перед собой, как локатор.
– Я вас провожу до лестницы,- Таня взяла его под руку. Под свитером ощутила плотные мышцы предплечья. Он высвободил руку, перехватил сам. Это он вывел ее в коридор, а не она его. Шли по длинному коридору молча, медленно.
– Лестница,- произнесла Таня. Он кивнул.
Спустились на первый этаж.
– Спасибо, что вы меня проводили. Это было очень приятно… в качестве услуги инвалиду,- и усмехнулся криво.
– Анализы в четверг будут готовы. Может быть, вам позвонить и сообщить результаты?
– Не стоит. Я приеду за результатами.
Таня смотрела ему вслед: свитер-то был на нем хороший, заграничный, а брюки - от военного обмундирования, офицерские.
В четверг он пришел с цветами, три толстоногих синих гиацинта с могучим запахом.
Слепому человеку трудно ухаживать за женщиной. Но Борису это как-то удалось. Таня шла ему навстречу. Не шла, бежала… И сближение произошло стремительно.
У Бориса оказалась чудесная мать, школьная учительница. После того, как сын потерял зрение, а вскоре и семью, Наталья Ивановна вышла на пенсию и помогала Борису освоиться в новых обстоятельствах. За четыре года Борис научился новой жизни, нашел работу,- преподавал физику в том самом техникуме, где когда-то учился танин муж Сережа.
Наталья Ивановна в Тане не чаяла души. Наверное, она и рассказала Борису, какая Таня красавица. Руки его не обладали той чувствительностью, которая свойственна слепым от рождения. Но ее было вполне достаточно, чтобы узнать красоту таниного тела. Брак их оказался очень счастливым. Через год родился сын Боря. Когда они шли по улице, люди обращали на них внимание, так они были красивы. Но только внимательный человек догадывался, что плечистый мужчина слеп. Таня после родов сильно растолстела, и тело ее перестало вызывать острый интерес у молодых мужчин. Оно принадлежало слепому мужу. Так же как и ее ровная, светлая и совершенно спокойная красота.
Танина мать недоумевала: хорошо, конечно, что вышла замуж, но почему ее все тянет на инвалидов? При такой-то красоте…
В сорок пятом году восемнадцатилетняя Клава окончила курсы Красного Креста и определилась медсестрой в туберкулезную больницу - там была надбавка. В первый же день работы она влюбилась в больного из пятой палаты Филиппа Кононова и вышла за него замуж, как только его выписали умирать. Но врачи ошиблись, он умер не сразу, а через два с половиной года.
Филипп был очень высок ростом, худ до полной костлявости и красив так, что четырехлетняя соседская девочка Женя на всю жизнь запомнила его сказочное лицо: Финист Ясный Сокол, или Андрей-стрелок, или Иван-Царевич. Но был он, несмотря на истошную синеву глубоко утопленных в глазницах глаз, волк волком. Ему было двадцать лет, лечили его от туберкулеза, вспыхнувшего после ранения, но каверны съедали его легкие, несмотря на все старания врачей, а еще пуще съедала его злоба на весь белый свет, на весь мир живых, которые останутся жить на земле, когда его уже не будет. И чем меньше оставалось легких, тем ярче кипела злоба, своей страшной силой обращенная больше всего на Клаву, утешавшуюся подлейшей народной мудростью: бьет - значит, любит.
Первый раз он изметелил невесту еще за свадебным столом. Подруги, подчистую съев пироги, еще злословили над остатками винегрета о невзрачности долговязой невесты в толстых очках, а она, уже получив первые синяки, рыдала в соседской комнате, на плече жениной матери. Женя тащила ей в утешение склеенную французскую куклу, бабушкину драгоценную Луизу. Женина мать прикладывала к расцветающему синяку сырой лук - была такая странная методика, тоже, видимо, из кладезей народной премудрости. Клава же трясла веником чахлых волос со свежей шестимесячной завивкой и лила первые слезы над своей великой любовью.
А потом постучала в дверь мать Клавы Мария Васильевна, она тоже плакала и приговаривала:
– Погубила себя, девка, погубила. Лучше б за пьяницу вышла, чем за бийцу такого…
Филипп же любил свою жену Клавдию всеми силами своей злой души. Все два с половиной года их брака он бил ее смертным боем и ревом ревел, гоняя по длинному коммунальному коридору. Несмотря на подслеповатость, она была проворна, длиннонога, все норовила выскочить на улицу через черную лестницу, а он догонял ее, а, если не догонял, то запускал в нее слету железной сапожной лапой или молотком. И кричал он всегда одни и те же слова:
– Жить будешь, сука, е…ся, а мне помирать!