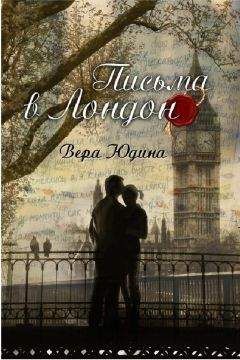— Да нет, это дальше. Зачем вам ездить? — отвечает Валя. — Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила. Да, еще нужна ваша подпись, ну это потом.
— Кака така подпись?
— Ну, что вы согласны.
— Я не согласна, чего выдумали!
— А вы берете ее домой?
— Никаких подписей, — говорю я взбешенно, — никаких подписей вы не получите. Новое дело!
И я бросаю трубку.
Как всегда, следует скандал с одеванием, малыш не хочет надевать валенки с галошами, не хочет прекрасную ушанку еще Андрюшину: хочет вязаную, легкую.
Но ведь холодно! Что ты со мной делаешь, ты желаешь мне сидеть у твоей койки смотреть, как ты болеешь опять? Я умоляю и т. д. Поехал все-таки в легкой шапке, но в валенках, хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле, народное правило. Ладно, до метро семь минут ходьбы быстрым темпом, в метро тепло, а там опять-таки три остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине, оказалось, зеленый продуваемый «газик». Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваной на спине по шву рукава, и самодельной шапке из лисьего хвоста.
— У вас рукав продрался…
— О! О! Зашиваю, зашиваю…
Бьет на роскошь, но в дальнейшем тоже оформила выступление на три копейки, как и я. Низшая категория.
— Вы кто, я поэт, — говорю я, чтобы обозначить специализацию.
— Я, — говорит лисий хвост, — я сказительница, они меня так называют.
— Кто, простите?
— Сказительница, рассказываю сказки и показываю кукол.
— Кукол?
— О, это так просто! Я делаю необычных кукол, из картофеля, из мочалок, понимаете? Вот ваша девочка тоже посмотрит.
Ага, даже мальчика от девочки не может отличить, хотя Тимошины кудри всех вводят в заблуждение. Девочка моя стрижет припухшими глазками в окна, снявши шапку на морозе.
— А я поэт, — говорю я. — Надень, говорю, надень. Смешно, знаете, я ведь почти тезка великому поэту. А то не поедем, сейчас скажу шоферу остановить и вылезем, надень. — Какому? — резонно спрашивает сказительница.
— Догадайтесь. Меня зовут Анна Андриановна. Это как высший знак.
— О, это всегда мистика! Мое имя тоже, знаете… Ксения.
— А это в чем заключается?
— Чужая. Чужая всем.
— Наградили родители, да…
— А.
Молчание. В животе у меня подвывает, в душе, которая не знаю, как у других, у меня находится в верху живота между ребер, в душе горит беспрерывная лампочка опасности, сигнал тревоги. Не ела ничего, в связи со звонком из больницы и не имела ни секунды, пыталась найти одного психиатра еще давних времен, сказали только (по домашнему телефону и очень горько): «Такие тут уже не живут». Стало быть, разошлись с мордобоем, и новый телефон спрашивать бессмысленно. Тимочку покормила, посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывший чай, он любит, весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка. Называется «пирожено» и сдобрено горькими слезами. Тимоша, вижу, тоже оголодал, но перед едой мы сначала должны трястись в «газике», холодно и воняет керосиновыми какими-то мешками, горькая, холодная судьба. Мать моя сегодня пока еще лежит (я дозвонилась еще раз в больницу, никакой такой Валечки мне не дали, такая не работает, тоже мистика), мама лежит хорошо, кушает, я это знаю, видела, как ест, жадно вытянув вялые как тряпочки губы, беззубо чавкает, глаза матовые, не блестят, зрачок туманный и как бы впечатан в глазное яблоко. Маленькая тусклая кругленькая печать. Как она в прошлый раз лежала, плечи один костяк, слеза из открытого глаза сбежала, едва смочила висок. Куда ее такую волочь? Да дайте же, сволочи, хоть умереть на своем месте! Не дают. Месть за все наши деяния настигает нас в конце, когда мы такие убогие, что кому тут мстить? Кому мстить? Но затаскают перед концом. Странно, кто такая Валя? Откуда был звонок? Или они там в больнице ленятся, не идут звать? Ведь я три раза звонила, дважды говорили «сейчас», и трубка лежала-лежала, пока я сама ее не клала безнадежно.
— Дети — самые лучшие слушатели, — говорит эта Ксения.
— О да, — соглашаюсь я.
— Приходишь — крик, гвалт, но начинаешь выступление… — заводит она на полном крике, «газик» рыпается по ухабам, мотор ревет.
Может быть, меня разыграла жена Андрея? Наняла подругу? Нет. Все подтвердилось. Маму выписывают завтра, завтра.
— …сказки народов, — заканчивает Ксения.
— Простите, а как вас по отчеству?
— Зовите просто Ксения.
— Ну как-то неудобно, вы давно на пенсии?
— Я? Я не на пенсии, — отвечает эта безотцовщина, а сама явно уже кандидат в бабушки.
— А я на пенсии, — говорю я, — вот выйдет книжка моих стихов, мне пенсию пересчитают, буду получать больше. Пока что мы с Тимой живем Бог знает как, и маму вот из больницы выписывают, и дочь по уходу за двумя детьми только алименты, а сын инвалид (перечисляю, как нищий в электричке).
— А я, — говорит не имеющая отчества, подскакивая на ухабах совместно с нами, — я выиграла машину. Водить учусь.
— Да, некоторые покупают лотерейные билеты, потом говорят, что выиграли, я знаю такие судебные процессы об отобрании прав.
— У нас сын! — говорит отца не помнящая, тряся щеками при скорой езде. — Его надо возить в музыкалку, так что пригодилось! Муж принципиально машину не водит, потому что лотерейный билет купила моя мама.
— Все понятно, поздно родили, — говорю я, — но ничего. Воспитать успеете к восьмидесяти-то годам.
— Мам, — говорит Тима, он меня то «мам», то «баб» зовет. — Мама! Я есть хочу! — Ваша дочка, это ваша дочка, хочешь конфетку? — забормотала эта всем чужая.
Он съел как собака, гам! И посмотрел еще.
— Спасибо скажи и надень шапку, тогда тетя даст тебе еще, — говорю я.
Тима сидит, как бы не веря в такое.
— Вот шапку снял, — говорю я, — если ты заболеешь, я ведь бабушку из больницы беру… Я завтра — оп! (подпрыгнули) — бабушку из больницы беру… (предупреждая его вопрос «каку таку бабушку?») помнишь бабу Симу? Баба Сима не разрешает без шапок ездить! У-у! Надень шапочку. Тетя еще конфетку даст.
Тетя бормочет:
— Да-да, я всегда про запас… У меня язва желудка… Мама снабжает импортным, насильно запихивает… Так дай же ребенку!
— Ну (это я), раз-два, надеваем! — И накидываю шапочку на него. Смотрим друг на друга выразительно, Тима и я. Тетя молчит.
Есть же некоторые. И про мать ее все ясно. Лотерейный билет, машина, импортные конфеты…
Тима осторожно тянет руку к шапке.
— Не снимай, Тима!
Неудобно как. Ксения без отца задумалась и поникла головой, трясясь, как холодец. Есть люди, которые легко-легко убивают, перед ними надо на четвереньках плясать, чтобы удостоиться одного взгляда, они же смотрят не выше подбородка, об улыбке нечего и говорить. Просто так задумчиво глядит мимо.
— А шоколадную ему можно? Я знаю, некоторым детям запрещено, моему сыну. Я говорю:
— Нет, шоколадную ему нельзя.
Тима окаменел, насколько это возможно в прыгающей машине.
— А у меня остались только шоколадные, увы.
— Спасибо, а то потом, знаете… Сыпь и все такое. — Я держусь. Мы не нищие! Тимины глаза переливаются, как чистой воды бриллианты, все выпуклее и выпуклее. Сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы. Он отвернулся. Он стыдится своих слез, молодец! Так просыпается гордость! Его ручка ищет мою руку и с силой щиплет.
Тетя деликатно отправляет в пасть конфету.
— Мне нельзя долго не есть.
— Ну ладно, — говорю я, — так и быть, я разрешаю. Ничего, одну в день можно, тем более что это не шоколад, а соевая смесь. У нас давно настоящего шоколада нет. Понижен процент содержания.
Тима чавкает, как его прабабка, неудержимо и захлебываясь. У меня в животе воет пустота, словно в печной трубе.
Нас встречают в пионерлагере.
— Вы знаете, вы сначала чаю попьете? Они только что чай отпили, пионеры.
Уже стемнело, желтые фонари, воздух опьяняющий, сыплется морозная пыль.
— Не знаю, — говорю я. — Надо подготовиться к выступлению.
Ксения, лишенная отца, возражает:
— Как же! Успеем! Обязательно горячего чаю, ведь говорить придется! Для голоса!
Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с карамелью и дважды покусилась на большие куски хлеба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб. Капает из носу, у меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка, но как ее достать, деликатно сморкаюсь в бумажку, у них тут вместо салфеток нарезаны бумажки. Где-то вдали шумят дети, их заводят в зрительный зал, мы с Ксенией забежали в туалет, она там задрала юбку и стала снимать с себя шерстяные рейтузы и осталась в шерстяных колготках, мелькнуло обтянутое брюхо и жирное лоно. Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, то есть толстые, обвисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви, и наверняка от этой Ксении и ее матери ихний муж гуляет на стороне от ужаса, и что хорошего, спрашивается, в пожилом человеке? Все висит, трепыхается, все в клубочках, дольках, жилах и тягах, как на канатах. Это еще не старость, перегорелая сладость, вчерашняя сырковая масса, сусло нездешнего кваса, как написала я в молодости от испуга, увидев декольте своей знакомой. И правильно, что на Востоке такую Ксению (и меня) упаковали бы до предела в три слоя, до концов рук и подошв, и подошвы бы замазали хной!