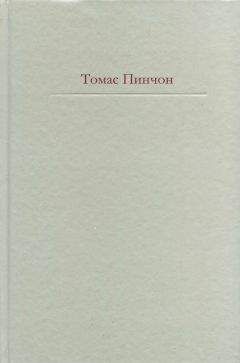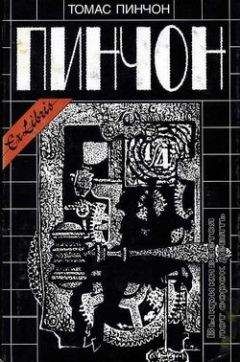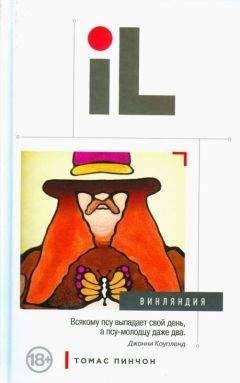Значит, Война эта никогда и не была политической, вся политика в ней — театр, лишь бы народ отвлечь… втайне же она диктовалась нуждами техники… сговором между людьми и технологиями, тем, чему требовался энергетический выплеск войны, и оно голосило: «К черту деньги, на кону сама жизнь [вставьте имя Нации]», — но имело в виду, скорее всего: близится заря, мне нужна кровь этой ночи, мой бюджет, бюджет, аххх еще, еще… Подлинными кризисами были кризисы назначения и расстановки приоритетов, не между фирмами — так все режиссировалось только напоказ, — но между различными Технологиями, Пластиками, Электрониками, Летательными Аппаратами и их нуждами, кои постигаются лишь правящей элитой…
Да, но Техника лишь откликается (как часто, особенно среди молодых шварцкоммандос, подчеркивался сей довод, надоедливый и занудный, как метод Гаусса), «Хорошо, конечно, говорить о том, чтобы поймать чудище за хвост, но как вы считаете — была б у нас Ракета, если бы кто-нибудь, некий конкретный кто-то с именем и пенисом, не захотел фигакнуть тонну аматола за 300 миль и подорвать ею квартал, населенный мирными жителями? Валяйте, пишите технику с большой буквы, обожествляйте ее, коли от этого вам покажется, будто на вас меньше ответственности, — но вас это определяет к равнодушным кастратам, братишка, к евнухам, что следят за гаремом нашей краденой Земли ради онемелых и безрадостных стояков человеческих султанов, людской элиты, у коей вообще нет права быть там, где она есть…»
Нам тут нужно искать источники силы и сети распределения, коим нас никогда не учили, маршруты силы, которых наши учителя не могли себе представить либо поощряемы были избегать… нам нужно найти измерители, чьи шкалы неизвестны миру, нарисовать собственные схемы, получая ответную реакцию, пролагая связи, сокращая поле ошибки, стараясь познать до-стоподлинную функцию… какой неопределимый график интриги сводя в нулевой точке прицела? Тут, выше, на поверхности каменноугольные дегти, гидрогенизация, синтез всегда были липой, фиктивными функциями, скрывавшими подлинное, планетарную миссию, да, вероятно, развертывающуюся уже не первый век… этот разваленный завод, ждущий своих Каббалистов и новых алхимиков, что откроют Ключ, обучат мистериям всех прочих…
А если это не совсем «Нефтепереработки Ябопа»? вдруг это заводы Круппа в Эссене, вдруг это «Блом и Фосс» прямо тут, в Гамбурге, либо еще какая «руина» понарошку, уже в другом городе? В другой стране? ЙЯАААГГГГ XXXXХ!
М-да, тут говорят стимуляторы, да, Энциан все эти дни трескал списанный нацистский первитин, как попкорн в кино, и к сему моменту большая часть нефтеперегонки — названной, кстати, в честь знаменитого первооткрывателя онейрина, — осталась позади, и Энциан погружен в какой-то новый параноидный кошмар, говорит и говорит, хотя чужие воздушные струи и двигатели выключают его из разговора.
Фоном
Я шалый и Дезокси-эфедриновый Дедуля,
слышится нечто
И у меня в карманах — радостный салют,
вроде пианино
По Зоне рассекаю, где псы-бродяги лают,
Хоуги Кармайкла
И грезы людям раздаю…
вот тут
Лампы вынул я из радиолы —
Без них она не так фонит.
Мне даже грошик жалко на «Звезды с полосами»,
Ибо у меня — свои…
Рот фронтом — вперед, скорость растет,
Хотя никто не услыхал.
Ой, ты так шустр, но я не боюсь
И скалюсь, как дерьма сожрал!
Не надо эфедрать меня, мой ангел,
Передо мной стань статью нетверда:
В комендантский час, когда света — кот наплакал,
Все-здесь будет как всегда
(Зажги же свечи)
А так все-будет как всегда…
Ночью у себя в дневнике Энциан записал: «В последнее время Рот слишком эксплуатируется. Слишком мало на выходе кому-либо полезного. Защита. О боже, о боже. Значит, они действительно ко мне подбираются. Прошу тебя, я не хочу так проповедовать… Я знаю, как звучит мой голос, — много лет назад слышал в Пенемюнде на „Диктафоне“ у Вайссмана… хром и бакелит… слишком высокий, надменный, Berliner Schnauze[312]… как же они, вероятно, кривятся внутри, когда я заговариваю…
Я мог бы уйти завтра. Я умею быть один. Это меня пугает не так, как они. Без конца берут — но никогда не пользуются тем, что взяли. Что, они думают, у меня можно взять? Патриархию мою они не хотят, любовь мою не хотят, информацию не хотят, да и мою работу, или мою энергию, или то, чем я владею… ничем я не владею. Денег больше нет — тут никто их не видал уже много месяцев, нет, не может быть дело в деньгах… сигареты? Сигарет у меня вечно не хватает.
Если я их покину — куда я пойду?»
И вот снова среди резервуаров, в вечерний ветер, юзом по этой синтетической пустоши, по всей ее низкокачественной черноте… Двигатель Кристиана, кажется, время от времени пропускает такт, колотится до полной остановки. Мгновенное решение: если заглохнет, пусть идет пешком. Так меньше возни, если Павел там, если же его там нет, подберем Кристиана на обратном пути и упромыслим грузовик, чтобы в ремонт отвез… все делать по-простому, вот стиль великого вождя, Энциан.
Но Кристиан не ломается, да и Павел оказывается там — вроде как. Ну, «там» не в том смысле, какой Энциан в его нынешнем состоянии рассудка станет пристально рассматривать. Но присутствует, что и говорить, вместе с потрясающим комплектом друзей, которые, судя по всему, появляются каждый раз, когда он приходит нюхать «Лёйнабензин», — такие, как, о, Мшистая Тварь, зеленее и ярче не бывает, горит ослепительнее флуорес-цента, а сегодня вечером ныкается в углу поля, робеет, то и дело ворочается младенцем… или, скажем, Водяной Гигант — гость в милю ростом, целиком сделан из текучей воды, любит танцевать, закручиваясь от талии, руки привольно вьются по всему небу. Когда люди Омбинди забрали Марию искать врача в Гамбурге, зазвучали голоса — голоса Грибковых Пигмеев, что плодятся в баках на грани между топливом и водяной подушкой, стали взывать к нему. «Павел! Omunene! Почему ж ты не вернешься повидать нас? Мы по тебе скучаем. Почему тебя не было?» Им там не очень весело — на Грани-то, состязаться с бактериями, что разъезжают по своей державе света, с этой клеточной аристократией, подбирающейся к стене углеводородов, дабы каждый оттяпал себе толику Господнего изобилья, — они опустошаются, оставляя свои отходы, зеленое журчанье, дивергентное нестабильное бормотание, слизь, что с ходом дней густеет, ядовитеет. Очень в самом деле это гнетет — быть пигмеем, скученным с тысячьми других, с сотнями тысяч, жить на другой стороне всего этого. Другой стороне, говорите? Вы о чем это? Какой еще другой стороне? Вы в смысле — в бензине? (Скученные Пигмеи, игриво и под какой-то широкоизвестный свинговый рифф:) Нет-нет, нет, нет! — Тогда, стало быть, что — в воде? (С. П.:) Нет-нет, нет, нет! — Ну так мне б кто-нибудь, пжалста, намекнул, пока я из трусов не сиганул! Мы в том смысле, объясняют Пигмеи, сближая крохотные свои головки в симметричный узор цветной капусты и сбираясь в мягкую томливую капеллу, как детки вокруг костра с Бингом Кросби в бейсболке (да, эти Leu-nahalluzinationen[313], как известно, нормально так жуть нагоняют, жутче даже культурного шока, тут у нас мета-шок, никак не меньше, белые трехсигмен-ные лица в ритуале, чья тайна глубже, чем у северного сияния над Калахари…), мы в смысле на той стороне вообще всего, всего бактериально-углеводородно-отходного цикла. Отсюда мы видим Грань. Это долгая радуга, преимущественно — цвета индиго, если это чем-то тебе поможет, — индиго и темно-пастельно-зеленая, ирландская такая (Бинг, дирижируя, вздымает все эти мозгопромытые ирландские личики трогательным крещендо в отблесках костра) зеленя… бензиня… в средине… субмарине… стихает, потому что к этому времени Павел уже отправился к нефтеперегонке, к черту эти 2 1/2 недели добровольных мучений, люди Омбинди гонятся за ним у бойлерных труб, обмотанных стекловатой, мужчины и женщины равно пытаются его ласкать, давят с обеих сторон Вопроса Племенного Самоубийства, Энциан жалуется, слишком увлекся Ракетой, слишком заалел в своей вражде с русским, чтобы еще о ком-то, кроме себя, заботиться… а Павел тут пытался не впутываться, не лезть под дыханье Мукуру, старался всего-навсего быть хорошим человеком…
Мшистая Тварь шевелится. Она подползла гораздо ближе с тех пор, как Павел смотрел в последний раз, — это тревожит. Внезапный разлив гладкого вишневого вниз по склону горы справа (а там были горы? Откуда горы-то взялись?) и он незамедлительно понимает — это не обман и надежды нет, — что соскользнул в Север, что вдохнул дыханье первопредка — и оказался в этой ужасной земле, а он ведь наверняка знал, что так все и будет, шаг за шагом эти последние годы, отвернуть невозможно (что есть отвернуть? даже не знаю, куда и поворачивать… не знаю, как вообще двигаться…) слишком поздно, опоздал на много миль и перемен.