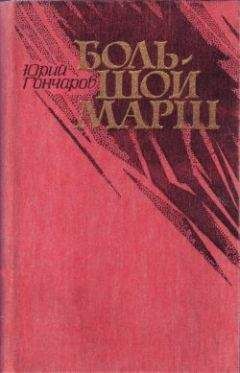– Слушай, – сказал он Наташе, показывая на циферблат наручных часов, – половина второго. Давай сделаем так: сходим в какое-нибудь кафе, перекусим, потом зайдем еще в одну гостиницу, на набережной, мне сейчас про нее сказали, и если там ничего, тогда в квартирное бюро…
– А вещи? – спросила Наташа.
– Сдадим здесь в камеру хранения. Видишь, написано: «Камера хранения».
– Хорошо, – согласилась Наташа.
Стрелка на табличке указывала в коридор, уходивший из вестибюля в глубь здания.
Дверь камеры оказалась закрытой. Но неплотно, за ней горел свет, кто-то двигался.
Коровин постучал.
Дверь приоткрылась. В ее вырезе стоял средних лет мужчина, широкогрудый здоровяк в мятом рыжем пиджаке, но в форменной фуражке с золотым галуном на околыше. В одной его руке была кружка с чаем, в другой – булка, рот плотно набит.
– Можно у вас оставить? – спросил Коровин, показывая на чемоданы у своих ног.
Кладовщик молча жевал, нижняя его челюсть мерно двигалась. Хлебнул из кружки, проглотил нажеванное, еще раз хлебнул.
– Вы наш постоялец?
– К сожалению, не получилось. Пойду искать место по другим гостиницам. А с чемоданами – неудобно. Тяжелые.
– У посторонних не берем.
– Всего ведь на час, полтора.
– Хоть на сколько. Не разрешается.
Коровин знал, что спор ничего не даст, жизнь все время учила его этому, но всегда в нем неискоренимо сидело и другое – возмущение неразумностью, протест против правил, установлений, которые здравый смысл отказывается понимать.
– Но почему же, полки у вас пустые, я заплачу, гостинице вашей доход… Не таскать же с собой чемоданы по всему городу!
Кладовщик отправил в рот последний кусок булки и освободившейся рукой стал закрывать дверь.
– Но почему?
– Что вы у меня об этом спрашиваете? Так администрация постановила. Не нравится – обращайтесь к директору, разговаривайте с ним. А мне что приказано – то я и делаю…
Коровин нащупал в кармане мягкую бумажку рубля, из той сдачи, что получил от таксиста, вложил кладовщику в его короткопалую, пухлую пятерню.
– Но только ненадолго… – сразу же сдался он. – А то попаду в неприятность, нас ведь тоже проверяют…
«Кто тебя проверяет, борова! Ряжку какую наел – на своей зарплате, что ль?» – захотелось сказать Коровину. Но сказал он совсем другое:
– Не беспокойтесь, я вас не подведу…
Когда они с Наташей вышли на улицу, он взял ее под руку.
– Ну как – немножко отдохнула? Голова не кружится?
– Нет, уже все хорошо… Воздух здесь какой чудесный! – сказала она, поднимая глаза на остроконечные кипарисы, мимо которых они шли, и выше, к небу. В пролет улицы был виден туманно-синий склон далекой горы, накрытой облачной попоной. Вниз от нее, клубясь, медленно ползли белые языки; казалось, это снежные лавины, низвергающиеся с высоты. Седловина, где находился перевал, была закутана, придавлена особо плотным серым мраком; невозможно было без дрожи представить, что всего час назад они с Наташей были там, в том плотном, страшном отсюда мраке; казалось, если в него попасть, живым и невредимым уже не выбраться…
А над побережьем небо было чистым, высоким, светилось ровной спокойной лазурью, такой нежной и сочной, что Коровин, подняв вместе с Наташей голову, мигом забыв все огорчения, невольно остановился и целую минуту глядел вверх.
– Ты всмотрись, всмотрись… – проговорил он восторженно. – У нас таких красок нет, наши – поскромней, приглушенней…
– Вижу… – покорно отвечала Наташа, давно привыкшая к этому свойству Коровина: в самый неожиданный момент, в самом неожиданном месте вдруг замереть, немо уставиться во что-нибудь округленными от восторга и изумления глазами или, наоборот, разразиться шумными восклицаниями, дикой радостью со взмахами рук. И от чего же – от какого-нибудь эффектного луча света, цветного пятна, что умеют приметить, выхватить из окружающего только его глаза, тогда как десятки других людей проходят тут же с незатронутым вниманием, ничего интересного для себя не видя.
– А вот этот кусок, эту лазурь ты видишь? – воздев руку, указывая Наташе, куда надо смотреть, продолжал исходить восторгом Коровин. – Видишь, как она чудесно светится, какая она вся насыщенная, сложная… Сколько в ней переходов, полутонов… Сам Куинджи не написал бы. А уж у него краски были – от самого бога, а может, от дьявола. У него на холсте луна так горела, будто кусок фосфора. Первые зрители даже думали, что это фокус, лампочка за холстом спрятана… Ну и ну! Такое небо – и зимой… Поверить просто невозможно… Вот набросаю этюд, привезу домой, покажу нашим лежебокам, что никуда, кроме самых ближайших мест, не ездят, и как ты думаешь, что они скажут? Ты что, скажут, старик, спятил, такого же в природе не бывает!..
Легкий наклон улиц указывал направление к морю, набережной, и, руководствуясь только этим, никого не спрашивая, они скоро действительно вышли на серый асфальт пустынной широкой набережной с барьером из зеленого диорита, за которым плескалось сонное зимнее море. Одиноко и величественно на середине набережной стоял гигантский раскидистый двухсотлетний платан с пятнистым стволом, картинно простиравший свои извилистые, тоже пятнистые, ветви. В них было что-то змеиное, питонье; невольно рождалось ощущение, что они только на вид неподвижны и мертвы, но есть, наверное, какие-то тайные моменты, когда они оживают, и тогда лучше не приближаться к этому необычному дереву, странному глазам всех, кто приехал оттуда, где растут только дубы, березы и осины.
Коровин и Наташа подошли к парапету. В лица им ударил трепетный ветерок, пролетевший над пустыней моря бог весть какое расстояние, пропитавшийся его стылым зимним холодом и горьковатой солью.
Едва они стали у парапета, сейчас же к ним подлетели чайки, начали перед ними кружить, пролетая совсем низко над их головами, скрипуче и требовательно покрякивая, кося на них красноватые, зоркие глаза. Они просили бросить им кусочки хлеба, так приучили их отдыхающие, приходящие к морю.
В левой стороне простирался порт. У мола, ограждавшего его территорию от моря, стоял большой белый пассажирский теплоход с красной полосой, серпом и молотом на трубе, из которой слегка сочился дымок. Чернели длинные, низкие корпуса грузовых кораблей, над которыми стадом жирафов клонились подъемные краны. Прогулочный катер, плотно набитый катающимися, всплошную, массой, заполнявшими его застекленную кабину, выходил из глубины порта на простор моря, ныряя носом в волны. Бойкий ветер трепал маленький красный флажок на его невысокой мачте.
Вдоль набережной в сторону порта с морским вокзалом, напоминавшим ленинградское Адмиралтейство, тянулся непрерывный ряд высоких зданий, непохожих друг на друга и в то же время имевших в себе что-то общее, черты того стиля, что присутствовал в «Таврии», которую Коровин хотя и бегло, но все-таки успел рассмотреть. Все эти постройки, как и та гостиница, тоже принадлежали тому далекому уже времени, когда город был чуть ли не единственным российским курортом, быстро рос, благоустраивался и украшался; каждое лето в него на отдых съезжались семьями знать, крупные дельцы, промышленники. Приезжали и известные артисты, художники, писатели, эта набережная видела Чехова, Горького, Шаляпина. Богатые люди за бешеные деньги покупали здесь земельные участки и строили дачные особняки, заказывая проекты у модных и дорогих архитекторов, учившихся своему искусству на образцах Ниццы и самых фешенебельных заграничных курортов, а другие богатые люди тоже покупали земельные участки, но ничего не строили, ожидая, когда их непрерывно повышающаяся стоимость возрастет в десятки раз, чтобы тогда перепродать свою землю и очень хорошо на этом нажиться.
С самого своего возникновения эта часть набережной была наиболее людным, оживленным местом города, густо насыщенным торговыми и иными заведениями. Такой она и осталась. Сплошной вереницей сменяли друг друга различные магазины, кондитерские, кафе и рестораны.
Коровин и Наташа, не пройдя вдоль витрин и сотни шагов, одновременно приметили особенно уютное, с первого же взгляда понравившееся им обоим кафе – с низенькими полированными столиками и мягкими креслицами в глубине просторного помещения, отделанного на современный западный манер, за зеленовато-дымчатым стеклом во всю уличную стену. В кафе было почти безлюдно, виднелась буфетная стойка с венгерским кофеварочным аппаратом, пирамидами слоек, пирожков и пирожных. Это было как раз то, что им хотелось. Но неподалеку от кафе на фронтоне другого здания синели буквы: «Приморская», и Коровин, указав на них Наташе, предложил:
– Давай сначала туда. А то ведь как бывает по закону подлости: на минуту раньше – и все бы в порядке, но промедлил – и кусай локти.
– Напрасно, по-моему, – сказала Наташа. – Ситуация ясная. Все точно так, как я тебе еще дома говорила. Как шофер сказал.