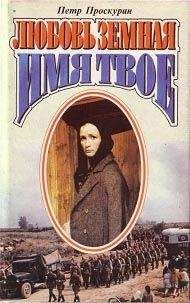— Просто баба, распущенность, стерва, — грубо оборвал его Николай.
— Николай! — В лицо Брюханову густо ударила кровь. — Она твоя сестра…
— Принципы совести основываются не на родственных отношениях, Тихон Иванович, — не согласился Николай, упрямо сжимая губы, и Брюханов безнадежно махнул рукой.
— Ладно… у всех вас, у Дерюгиных, одна кровь, черт возьми…
— Я отказываюсь, Тихон Иванович, — твердо сказал Николай и достал новую папиросу, как бы подчеркивая этим, что разговор закончен; он даже встал.
— А я расцениваю твой отказ как детский, — сказал Брюханов, настойчиво и близко глядя Николаю в глаза. — Это бессмысленно, а значит, глупо.
— Пусть, но это моя жизнь.
— Твоя, чья же еще? Это просто максимализм молодости, больше ничего. Никто не собирается вмешиваться в твою жизнь… Но ты не будешь спорить, что в главном твоя жизнь уже определена. — Брюханов помолчал и продолжал: — В науке главное сразу же найти свой стержень. Предлагаю тебе, Коля, перевестись в институт Лапина в Москве.
— Академика Лапина? Ростислава Сергеевича Лапина? — Николай от растерянности сломал папиросу и тут же, взглянув на нее, сунул в пепельницу.
— Да, Лапина, Лапина! — подтвердил Брюханов.
— Вы шутите, Тихон Иванович, — сказал Николай.
— Почему же? Это как раз господин случай, и мимо него тебе пройти нельзя. Ты понял меня? Господин случай!
— Я должен подумать, Тихон Иванович, — опустил глаза Николай.
— Приходи вечером домой, — попросил Брюханов. — Хоть с отцом посидишь по-человечески, поговорим, он завтра уезжать собирается. Тимофеевна обрадуется… Ты уж не обижай старуху, любит она тебя. Так что приходи.
Николай ничего не ответил, молча пожал протянутую Брюхановым руку, проводил его до двери, затем оделся и вышел сам. Город встретил его шуршанием опавших листьев под ногами, потоками озабоченных, спешивших куда-то людей. На деревьях еще плескались под ветром последние остатки листвы, он шел, не помня дороги, с разгоряченной головой, на чем свет стоит ругая Аленку, Хатунцева и особенно Брюханова, внесшего в душу подлинный хаос. Известный теоретик, возглавляющий целое направление в радиофизике, Лапин… Как же! Кто не хотел бы попасть к нему… Знал, чем зацепить, волновался Николай, соблазн велик, но к Брюханову домой он все равно не пойдет, с какой стати? Он и без костылей пробьет себе дорогу, хоть к тому же Лапину тоже. Нет, не пойду, окончательно решил Николай, никуда не пойду, но вечером, уже часов в девять, уставший и голодный, так и не выносивший какого-нибудь определенного решения, все-таки явился к Брюханову. Первым делом, как и следовало ожидать, он попал в руки Тимофеевны, и она, нисколько не стесняясь Брюханова и Захара, высказала Николаю все, что думала, и тот покорно выслушал; он даже почувствовал себя от ругани лучше. Тимофеевна заставила его вымыть руки, затем, словно опасаясь, что он может улизнуть, провела в гостиную, и едва он увидал накрытый стол, как сразу же понял, что его ждали, и давно. Он смутился, покраснел, сел на свое старое место и оказался напротив отца; он с первого мгновения понял, что отцу неловко, и зажался еще больше, потому что ни при первой встрече, ни сейчас не знал, что сказать отцу и как держаться. Разительное сходство с этим большим, молчаливым и в общем-то малоприветливым человеком еще более усиливало его скованность, но Тимофеевна уже торжествующе подала на стол пирожки с грибами, свежих карасей с поджаренными, золотистыми боками, тесно уложенных друг к другу на продолговатом фаянсовом блюде с ручками. Николай взглянул на нее и засмеялся, и лицо его словно осветилось, стало совсем мальчишеским.
Почувствовав пристальный, спокойный взгляд сидевшего напротив отца, Николай слегка отодвинулся от стола; странно, подумал он, чего это я? Ничем перед ним не виноват, а он точно все время ищет во мне что-то, не находит и осуждает, а при чем же здесь я? Я даже не помню его, больше помню Илюшку, при встречах с ним приходилось почему-то стыдиться… да, да, это я хорошо помню. Все это странно и малоинтересно. Все, очевидно, ждут сейчас, что я должен хоть почувствовать его своим отцом, а себя сыном… Должен или не должен? Или все это никому не нужные условности? Да, но почему мне тогда неловко, почему я все время его чувствую словно какую-то тяжесть и даже не знаю, как от нее избавиться? Интересно, что сам он думает и чувствует, и думает ли он вообще обо мне? Зачем он сюда приехал? Говорили, что они с Тихоном Иванычем очень дружили в молодости, вместе воевали у Котовского! Невозможно представить — у Котовского! Прямо ископаемая давность какая-то… И что их связывает друг с другом сейчас? Ведь так далеко стоят один от другого… словно представители разных цивилизаций…
Николай вяло поковырял вилкой, разворотив толстого икряного карася на две половины, стараясь ни на кого не глядеть и в то же время болезненно воспринимая любой знак внимания к себе, сердясь на Тимофеевну, то и дело подкладывающую ему в тарелку и назойливо напоминавшую, чтобы он ел.
— Ну, Никола, — услышал он внезапно голос отца, — чего матери-то передать? Что ты все молчишь?
Николай вздрогнул, поднял глаза; и, как это часто бывает, он мгновенно, без всякого перехода, понял, что этот хмурый, немногословный человек связан с ним какими-то особыми узами и что отец все это время, словно в открытой книге, читал все происходящее в его душе и все понимал и прощал. Николай почувствовал, как отчаянно горит лицо; все, что он знал, все его книжные мудрости (до этого момента он мог всегда спрятаться за ними) растаяли, и он остался наедине с тем непонятным, чего он и обозначить словом не мог; он только знал, что соприкоснулся с неизвестной до сих пор силой, и она принесла неведомое ему раньше острое, почти физическое облегчение. Ему захотелось признаться в этом отцу, но он побоялся расплакаться и, подняв потемневшие глаза, сказал неуверенно:
— Что передать? Здоров, учусь… Ну, и все остальное. Все хорошо. Как достану гильзы, сразу пришлю или с кем-нибудь передам.
— Какие гильзы? — заинтересовался Брюханов.
— Егор у нас охотой баловался, — пояснил Захар. — Ружье у него, тулка… Ну, и я иногда поброжу…
— А помнишь, Захар, лесника Власа с Демьяновского кордона? Зайцев было…
Николай впервые увидел на лице отца широкую, свободную улыбку, отец словно бы помолодел, и Николай увидел, что он далеко не стар еще и красив какой-то особой, наполненной, спокойной, все понимающей красотой.
— Было, да сплыло. Кругом да около чего ходить, — сказал Захар, все так же открыто, дружелюбно глядя на сына. — Тут вот мы о тебе говорили, Никола, Тихон Иванович, значит, все нам обрисовал… Что ты сам-то решил?
— Что бы ты, отец, на моем месте решил? — спросил Николай, с облегчением произнеся впервые в общении с Захаром это трудное для него слово «отец» и как бы окончательно разрушая прежнюю преграду между ними. И Захар с благодарностью, ни от кого не скрываясь, посмотрел на сына, и в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной; но тут же весь внутренне сжался, настолько сидевший напротив него человек был богаче, щедрее его самого душой, и было с ним рядом и хорошо, и трудно; он понял, что его всегда теперь будет тянуть к этой неосознанной глубине, в которую он неожиданно, слегка только заглянул, и всегда теперь будет не хватать ее. Ничуть не смущаясь присутствия Брюханова и Тимофеевны, Захар тяжело шлепнул ладонью по столу.
— Эх, все-таки хорошо жить, мужики! Эх, оскомипа! В этом деле какой я тебе советчик, Коля. На твоем месте мне уже не быть, у меня за плечами своя грамота… Два класса, Тихон вон знает…
— Ну, при чем здесь это! — горячо возмутился Николай.
— А для тебя-то самого будет от Москвы польза?
— Еще бы! — Николай удивленно взглянул на отца. — Наука так стремительно развивается, быть в центре новейших идей, теорий, споров… Лапин — это самый передовой рубеж.
— Тогда думать нечего, езжай! — решительно сказал Захар. — Не я виноват, что ничего не могу тебе присоветовать, на общую храмину всю жизнь горбил… Вот и сейчас, что я могу? Знаешь, Никола, я сюда как на казнь ехал… Вот он, Тихон, сидит, мне до него как до горы недоступной… Ну, и все прочее у нас перемешалось… Боялся с ним сойтись глаза в глаза… а сошелся, ничего. Глянули друг на друга, все на места стало. Жизнь в чем-то, может, и короткая, а в другом — длинная, конца ее не увидишь. Не бойся в самую глубь заглянуть…
Захар замялся, всеобщее молчание смутило его, но по молодым, блестящим, внимательным глазам Николая он понял, что именно этот его разговор самый нужный сейчас и что все, даже Тихон, ждут, что он скажет дальше.
— Да и сейчас было трудно, — продолжал он, — а вот не поддался, не шарахнул в кусты, наступил себе на горло, вроде легче стало, точно чиряк в душе прорвался. Сказать не могу, что я понял, но знаю — понял, и баста. Ведь мы с ним в молодости-то чего не делали, а теперь у него от моей Аленки — дочка. Как же это так, думаю, никак этого в толк не возьму… И прибить его нельзя — больно начальник большой, в Сибирь куда-нибудь загремишь. А как сошлись глаза в глаза, понял я, нет в этом деле одинаковой мерки для всех и никогда не будет. Не надо ее, одинаковой для всех, преснятина тогда получится, не жизнь. Вроде стало мне ясно, почему Аленка к нему потянулась.