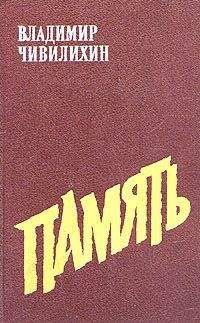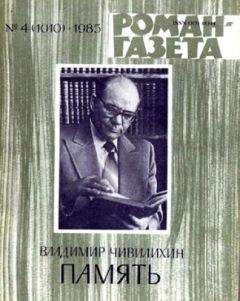28 сентября 1941 года генерал Франц Боше взял по Приказу Гитлера единоличную власть в Сербии и развил положения берлинского приказа, потребовав от подчиненных поступать «со всей бесцеремонной жестокостью, ибо жертвами пали сотии немецких солдат», и пояснил, обратившись к истории: «Вашим заданием является объездить страну, в которой в 1914 году ручьями текла немецкая кровь из-за коварства сербов — мужчин и женщин. Для всей Сербии должен быть дан устрашающий пример, который должен больше всего затронуть все население. Вы — мстители этих мертвых. Каждый, кто поступает мягко, подвергает опасности жизни своих друзей. Невзирая на личность, он будет признай к ответственности и предан военному суду».
В начале октября 1941 года, когда немцы начали общее — наступление на партизан Сербии, на части Крагуевацкого и Чачакского отрядов, партизаны захватили роту немцев, сбили разведывательный самолет с начальником связи коменданта Сербии, освободили Горни Миланавец и Чачак. Из приказа генерала Франца Боше от 10 октября 1941 года: "В Сербии из-за балканского склада ума и больших размеров коммунистического и замаскированных под национальные повстанческих движений нужно выполнить приказание Верховного командования вооруженных сил с самой большой строгостью. Быстрое и бесцеремонное подавление сербского восстания явится вкладом в окончательную победу немцев…
Если будут потери среди немецких солдат или фольксдойче, то территориальные уполномоченные коменданты вплоть до командующего полка сразу же дадут приказ о расстреле противника по следующему порядку: а) за каждого убитого немецкого солдата или фолъксдойче (мужчину, женщину или ребенка) — 100 пленных или заложников; б) за каждого раненого немецкого солдата и фольксдойче — 50 пленных или заложников…"
Вспоминаю попутно, как попал мне в руки подлинный дневник тринадцатилетнего бахмачского парнишки Толика Листопадова — этот потрясающий своей жестокой правдой исторический документ, написанный на оккупированной Черниговщине, пока хранится у меня, но предназначен для музея. Это в нем я прочел строчки, пронизанные чувством маленького патриота: «Скоро ли у нас в городе будут люди, которые и говорят по — нашему и по духу наши?» А вот опубликованные в моей повести «Здравствуйте, мама!» строчки из ночной записи 1 января 1942 года:
«За одного убитого немца будут расстреливать 100 человек наших жителей». В Нежине кто-то убил немца с собакой, а они за это расстреляли 140 человек жителей и говорят: «100 человек за немца и 40 человек за немецкую собаку».
Общие потери немцев в районе Крагуеваца на 16 октября 1941 года составили пятьдесят человек убитыми и сорок ранеными. Гитлеровцы с педантичной точностью выполнила приказ… 50х100+40х50=7000… Территориально уполномоченный комендант, опираясь на свежие войсковые батальоны, оттеснил партизанские отряды в горы и приступил к исполнению карательных обязанностей. Людей хватали в домах, на улицах, в церквах, школах. Брали только мальчиков, юношей, мужчин и стариков, уводили и увозили в глубокую низину, где текли два светлых ручья… К вечеру 21 октября 1941 года у Красного города, как называют в народе Крагуевац, лежало ровно 7000 трупов.
В долине этой сегодня мемориальный музей. Со старых фотографий смотрят на тебя все семь тысяч пар глаз, закрывшихся туманным осенним днем. Безгрешные искристые ребячьи глаза — тихие, доверчивые, наивные, задумчивые, грустные, озорные, кроткие, веселые, отчаянные! Траурно — торжественное шествие ста тысяч детей Югославии к святым могилам ровесников — самое возвышенное, что я видел в жизни. Стою у одного из мемориалов, под которым покоятся останки трехсот школьников и восемнадцати учителей, вижу закаменевшее лицо Сергея Викулова, слышу — вспоминаю слова сербского друга:
Мой класс ожидает пули,
И никто никому не подсказывает…
Все, даже самые маленькие, на память знают урок,
В последний раз поблескивают их ребячьи глаза:
Здесь нет двоечников, ибо мы сыны народа,
У которого и самый маленький ребенок,
Лишь только научится ходить,
Уже знает, как нужно умирать.
Разве вы всё еще удивляетесь,
Что добровольно остаюсь с ними?
Чтобы я, их старый учитель, одних их оставил?
А завтра? Чтобы на меня показывали пальцем?
Вы этого не понимаете…
Это мы, «дикари», знаем:
Учитель не только с классным журналом учитель.
Стреляйте! Я веду последний урок!
И еще не вспоминается последнее посещение Кракова…
Равель, резиденция польских королей. Торжественнопечальный спуск к саркофагу Адама Мицкевича. Всплывают в памяти белые, нерифмованные стихи Анатолия Чивилихина, столь редкие в его творчестве:
Та армия, в которой я служил,
Освободила Краков в день январский…
19 января 1945 года… Поэт и воин не увидел, однако, Вавеля в тот день — освободители спешили на Одер. И лишь светлой победной весною, возвращаясь домой, он со своими фронтовыми друзьями сделал остановку в Кракове. После ужасающих руин, которые довелось им увидеть за прошедшие четыре года, они надумали поближе познакомиться с сокровищем, спасенным ими, — ведь древний Краков, прекрасный город ученых, революционеров, поэтов, рабочих, служащих, художников, студентов, был обречен фашистами на полное уничтожение, и только молниеносная мера нашего Верховного Главнокомандования спасла это историко — архитектурное сокровище Польши и всей Европы.
В Вавель победителей пригласили хозяева: «осмотреть гробницы тех, кто когда-то властно правил Польшей».
Я объяснил, что русских офицеров
Сюда влекло желание другое -
Здесь погребен, друг нашего поэта
И друг свободы — значит, друг наш дважды.
И мы пришли, чтоб возложить венок,
Зримо вижу картину, как наш Анатолий с венком весенних цветов идет в группе друзей — фронтовиков сквозь толпу посетителей, которая уважительно расступается пред их сияющими орденами и медалями, пред этим венком.
Сначала показалось непонятным -
Как окружая королей заботой,
Здесь умные рабы не рассчитали,
Что королям, должно быть плохо спится
В соседстве с верным рыцарем свободы,
Однако вскоре объяснилось все…
Русские офицеры весны 1945 года не смотрели на помпезные гробницы королей, на величественные своды, на витражи, резные колонны и решетки художественного литья — они шли, провожаемые любопытными и почтительными взглядами, прямо к простым железным перильцам, что скромно расположились средь каменного пола, огораживая вход в подземелье.
Да, он лежит под мраморным надгробьем
Невдалеке от Яна Казимира,
Совсем невдалеке от Сигизмунда,
Но, чтобы не тревожить сих последних,
Его похоронили в подземелье,
И вход закрыт железною плитой.
Поэт, если он истинный поэт, увидит смысл и символ в обыденном, зорко заметит то, мимо чего бездумно пройдут тысячи нас, обычных смертных.
Изгнанник в жизни и за гробом узник,
Прими поклон хотя бы лишь за то,
Что говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.
Последние две строки я знал с детства и вспоминал их, когда впервые побывал в Вавеле, где было тогда не так людно. Вспомнились они мне и сейчас, в пестрой и густой толпе современных туристов. Снова величественные фигуры Александра Пушкина и Адама Мицкевича встали в памяти рядом, соединенные тем общеизвестным стародавним рукопожатием, о коем в не совсем обыденных, теперь уже далеких обстоятельствах вспоминал незнаменитый русский поэт Анатолий Чивилихин, ныне покойный… Пусть живет средь людей и народов вечная добч ропамять!
Открытое письмо Доржийну Дашдаваа, заведующему кафедрой русского языка и литературы Высшей партийной школы при Центральном Комитете Монгольской народно — революционной партии
"Дорогой Доржийн!
Временами вспоминаю наше доброе знакомство, последующие за ним встречи, неспешные долгие разговоры обо всем на свете — о «Сокровенном сказании» и «Слове о полку Игореве», о русской литературе XIX века и монгольском переводе трех с лишним сотен томов «Ганджура» и «Данчжура» в XVIII, о Москве и Улан — Баторе, о науке и народных обычаях, о женах и детях, о космосе и человеческой душе, о зарплате и снабжении, о политике и истории, о Чили и Кампучии, Америке и Китае, прошлом и будущем.
Храню твои письма и открытки, написанные чистейшим русским языком, и мою книгу, переведенную тобой на монгольский, с твоей дарственной надписью.
А помнишь заседание ученого совета в Московском университете, где ты защищал свою интересную диссертацию о языке Максима Горького и особенностях перевода его романа «Мать» на твой родной язык? Накануне мы просидели полночи над твоим вступительным докладом, уточняя филологические термины. Ты волновался ут,ром, старательно делал внд невозмутимейшего человека, но я — то чувствовал и знал, чего тебе, друг, это стоило! Однако все прошло хорошо, как и должно быть, и я с удовольствием вспоминаю твою отличную защиту, посещение посольства Монгольской Народной Республики и наше скромное застолье с холодной русской водкой, теплыми бурятскими бозами, горячими монгольскими блюдами и замечательным, обжигающим белым пламенем калмыцким чаем…