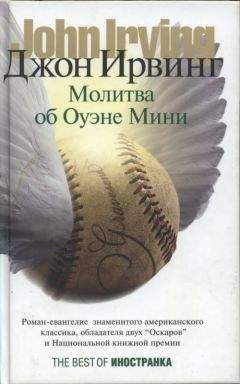Хотя под вечер пекло уже не так сильно, над асфальтом колыхалось сухое жаркое марево; несмотря на легкий ветерок, жар накатывал волнами, как из топки. Помимо жары, я обратил внимание на пальмы — здесь повсюду стояли красивые, высоченные пальмы.
Самолет Оуэна с телом, которое он сопровождал домой, задерживался.
Я стал ждать вместе с мужчинами в мексиканских рубашках и кожаных сандалиях; кое на ком были ковбойские сапоги. Женщины, от маленьких и изящных до тучных, с бесстыдным самодовольством расхаживали в коротких шортах и майках на тонких бретельках; их резиновые тапочки гулко шлепали по бетонному полу аэропорта, носящего оптимистическое название Скай-Харбор — «Небесная гавань». И мужчины и женщины питали неудержимую любовь к местным украшениям из серебра с бирюзой.
Заглянув в игровой зал, я обнаружил там молодого, обгоревшего на солнце солдата; он с какой-то свирепой решимостью терзал пинбольный автомат, то и дело раскачивая его. Первый на моем пути мужской туалет оказался закрыт; на нем висело объявление: «Временно не работает», но бумажка уже успела пожелтеть, — судя по всему, она висела здесь давно. После некоторых поисков, пройдя через полосы прохлады разной степени кондиционированности, я нашел сооруженный наспех мужской сортир с наклейкой на дверях: «Временная мужская комната».
Сперва я усомнился, что попал в мужской туалет. Это была темная полуподвальная комната с громадной раковиной, словно в прачечной; я подумал: уж не писсуар ли это для великана? Настоящий писсуар скрывался за ограждением из швабр и ведер, а единственная туалетная кабинка, сооруженная из фанеры прямо посредине комнаты, так свежо пахла древесиной, что этот аромат едва не перебивал удушливый запах дезинфицирующей жидкости. Еще здесь имелось длинное зеркало, прислоненное к стенке, вместо того чтобы висеть на ней. Туалет «временнее» даже представить себе было трудно. Комната — служившая в прошлом, по-видимому, кладовой, но в которой имелась такая загадочно просторная раковина, что трудно было даже вообразить, какие такие вещи в ней можно стирать или замачивать, — отличалась совершенно нелепой для такого маленького помещения высотой потолка. Казалось, будто землетрясением или взрывом эту некогда длинную и узкую комнату поставило на попа. А единственное окошко располагалось под самым потолком, как если бы комната находилась настолько глубоко под землей, что только такое высокое окно и могло пропустить свет с уровня земли, — ничтожное количество этого света едва достигало пола комнаты. Такие окошки часто сооружают над дверью, но здесь оно было само по себе. Судя по петлям, оно открывалось, а подоконник под ним был такой широкий, что на нем мог бы с удобством усесться человек, если бы из-за нависающего потолка ему не пришлось согнуться пополам. Край подоконника отстоял от пола футов на десять или даже больше. Это было одно из тех недосягаемых окон, какие открывают и закрывают с помощью крюка на длинном шесте, — если только его вообще кто-нибудь когда-нибудь открывал. По крайней мере, выглядело оно так, будто не мыли его ни разу.
Я пописал в маленький узкий писсуар, пнул швабру в ведре, качнул хлипкую «временную» кабинку из фанеры. Этот туалет состряпали до того халтурно, что вряд ли, подумал я, потрудились подвести писсуар и унитаз к трубам. Угрожающих размеров раковина была такой грязной, что я решил не притрагиваться к кранам — так что руки мне вымыть не удалось. Ко всему прочему здесь не было полотенца. Хорошенькая «Небесная гавань», подумал я и побрел прочь, сочиняя на ходу жалобу авиапассажира. Мне даже в голову не пришло, что где-нибудь в другом месте может быть идеально чистый и исправный мужской туалет; возможно, он и был. Возможно, меня просто занесло в одно из тех унылых мест, на дверях которых обычно пишут «Для служебного пользования».
Я побродил немного в кондиционированной прохладе аэропорта; время от времени я выходил наружу — просто чтобы еще раз почувствовать поразительную, удушающую жару, невиданную в Нью-Хэмпшире. Не утихающий ни на секунду бриз дул со стороны пустыни, судя по тому, что такого ветра я никогда не ощущал ни раньше, ни потом. Ветер был сухой и горячий; он трепал свободные мексиканские рубашки на мужчинах, словно флаги.
Я стоял на улице, на горячем ветру, когда вдруг увидел семью погибшего уоррент-офицера; они все тоже дожидались самолета с Оуэном. Будучи до мозга костей Уилрайтом — то бишь типичным новоанглийским снобом, я искренне считал, будто Феникс в основном населен мормонами, баптистами и республиканцами. Однако родня уоррент-офицера не отвечала моим ожиданиям. Первое, что меня удивило, — они не производили впечатления цельной семьи; более того, казалось, они вообще не связаны друг с другом родственными узами. Человек шесть или семь, они стояли, обдуваемые пустынным ветром, возле серебристого катафалка и, хотя находились довольно близко друг от друга, все же напоминали не столько семейный портрет, сколько нанятых впопыхах сотрудников какой-нибудь маленькой бестолковой фирмы.
Вместе с ними стоял армейский офицер — должно быть, тот самый майор, с которым Оуэн уже работал вместе, преподаватель военной кафедры из университета штата Аризона. Это был плотный подтянутый мужчина, который напомнил мне Рэнди Уайта с его неутомимыми занятиями спортом. Офицер носил солнечные очки типа «консервов», которые предпочитают летчики. Возраста было не определить — можно дать и тридцать, и сорок пять — отчасти благодаря его тренированной фигуре; жесткие волосы торчали коротким ежиком, — то ли светлые от природы, то ли седоватые.
Я попытался понять, кто были остальные. Мне показалось, что я угадал в одном из них распорядителя похорон — директора похоронного бюро или его заместителя. Это был высокий, худой, бледный тип в белой крахмальной рубашке с длинными остроконечными углами воротника; он единственный из всей этой странной группы был одет в темный костюм с галстуком. Поодаль от общей группы стоял грузный мужчина в шоферской форме и безостановочно курил. Сами родственники уоррент-офицера хранили непроницаемый вид — если не считать общей для всех явной, хотя и по-разному выражавшейся ярости. Меньше всего она проявлялась у сутулого, медлительного на вид мужчины в рубашке с короткими рукавами и шнуровкой. Я мысленно определил его как отца. Его жена — предполагаемая мать погибшего — все время дрожала и дергалась рядом с этим мужчиной, который казался мне просто-таки воплощением неподвижности и непробиваемости. Женщина находилась в постоянном движении; ее пальцы беспрестанно теребили одежду и оправляли волосы, высоко взбитые и липкие на вид, словно сахарная вата. Лучи заходящего пустынного солнца усиливали это сходство с сахарной ватой, окрашивая волосы в розовый цвет. Три дня «поминок на свежем воздухе» здорово отразились на ее физиономии; к тому же она почти перестала владеть собой: время от времени она сжимала кулаки и разражалась ругательствами, которые я не мог расслышать из-за пустынного ветра и расстояния, нас разделявшего. Как бы то ни было, ее брань мгновенно действовала на парня и девушку, в которых я угадал брата и сестру погибшего.
С каждой злобной вспышкой матери ее дочь передергивало, будто ругательство было адресовано непосредственно ей (хотя я думаю, что это не так) или будто с каждым ругательством мать ухитрялась стегнуть дочь невидимым мне кнутом. При этом дочь вздрагивала и съеживалась, а пару раз даже зажала уши руками. По тому, как измятое хлопчатобумажное платье облепляло ее при каждом порыве ветра и к тому же было ей явно тесновато, я понял, что она беременна, хотя выглядела слишком юной для этого, и я не видел рядом ни одного мужчины, годящегося на роль отца ее нерожденного ребенка. Парень, стоящий возле девушки, как мне показалось, доводился братом — и притом младшим — как мертвому уоррент-офицеру, так и беременной девочке.
Это был долговязый и нескладный малый с костлявым лицом, наводящий оторопь своими смутно угадывающимися потенциальными габаритами. Лет ему было на вид не больше четырнадцати—пятнадцати, но, несмотря на худобу, костяк у него угадывался до того мощный — если судить по гигантским мосластым лапищам и непомерно большой голове, — что парень мог бы свободно набрать еще сотню фунтов, не особо увеличившись в размерах. С этой дополнительной сотней фунтов он стал бы гигантским монстром, а сейчас, пожалуй, он выглядел так, будто недавно как раз сбросил эту самую сотню, и в то же время чувствовалось, что он готов набрать ее снова хоть за ночь.
Этот верзила возвышался над всеми, раскачиваясь на ветру, как высоченные пальмы, что тянулись вдоль аллеи перед входом в здание аэропорта Скай-Харбор, и его ярость проявлялась агрессивнее, чем у всех остальных; его злоба, подобно его телу, казалась чудовищной и способной увеличиться многократно. Когда мать ему что-то говорила, парень запрокидывал назад голову и сплевывал; внушительный грязно-коричневый комок описывал длинную дугу и шлепался об асфальт. Поразительно, что родители позволяют ему в таком возрасте жевать табак. Затем он поворачивался и застывшим взглядом смотрел на мать в упор, пока та сама не отворачивалась от него, по-прежнему не зная, куда девать руки.