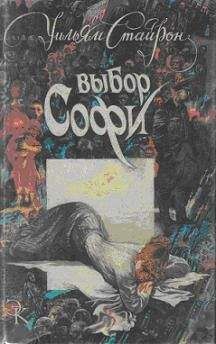В комнату, шурша пластиковыми мешками, вошли двое служителей из морга, в белых куртках. Вторую пластинку оба они – Софи и Натан – слушали все лето. Я не хочу останавливаться на ней дольше, чем она заслуживает, ибо Софи и Натан оба отринули веру. Но пластинка была на самом верху шпинделя, и, опуская ее на место, я невольно протянул ниточку между нею и их концом: должно быть, в минуту конечной муки, или эйфории, или какого-то всеобъемлющего прозрения, которое, возможно, объединило их перед тем, как они погрузились в вечную тьму, в ушах у них звучало: «Иисусе, радость человеческая».
Эти последние записи следует, наверно, назвать чем-то вроде «Исследования о том, как победить горе».
Мы похоронили Софи и Натана рядом на кладбище в округе Нассау. Устроить это оказалось куда легче, чем можно было предположить. А дело в том, что на сей счет существовали опасения. В конце концов, речь шла о «пакте самоубийства» между евреем и католичкой (как назвала это «Дейли ньюс» в крикливой статье с фотографиями, помещенной на третьей странице), о не связанных браком любовниках, погрязших во грехе, вызывающе красивой женщине и интересном мужчине, о трагедии, инициатором которой был молодой, страдающий психозом человек и так далее и тому подобное, – таковы были посылки суперскандала 1947 года. И можно было предвидеть всякого рода возражения против совместных похорон. Однако провести эту церемонию оказалось сравнительно легко (и организовал все Ларри), потому что никаких религиозных обрядов не намечалось. Родители Натана и Ларри были правоверными евреями, но мать умерла, а отец, которому в ту пору было за восемьдесят, дышал на ладан и совсем выжил из ума. А кроме того – и почему, собственно, не смотреть фактам в лицо, сказали себе мы, – у Софи не было никого ближе Натана. Все эти соображения и привели к тому, что именно Ларри договорился об обряде, который и был проведен в ближайший понедельник. И Ларри и Натан уже многие годы не ходили в синагогу, а я сказал Ларри, когда он решил посоветоваться со мной, что, я думаю, Софи не хотела бы, чтобы ее отпевал священник или чтобы ее вообще хоронили по церковному обряду – это было, возможно, богохульное утверждение, обрекавшее Софи на вечное пребывание в аду, но я был убежден (как убежден и по сей день), что я был прав. В загробной жизни Софи не страшен никакой ад.
Итак, аванпост Уолтера Б. Кука в центре города провел похоронную церемонию в самом благопристойном и приличном при сложившихся обстоятельствах виде, хотя всему и сопутствовал душок (во всяком случае, для зевак, толпившихся снаружи) грязный и роковой страсти. Немного не повезло нам с духовным лицом, которое проводило обряд – он был очень плох, – но я, по счастью, ничего не заметил, стоя в тот день рядом с Ларри и приветствуя пришедших на похороны. Их было всего несколько человек. Первой прибыла старшая сестра Ландау, у которой муж хирург. Она прилетела из Сент-Луиса с сыном-подростком. Два разодетых хиропрактика – Блэксток и Катц – прибыли с двумя молоденькими женщинами, работавшими вместе с Софи: обе были осунувшиеся, с красным носом и рыдали вовсю. Етта Зиммермен – на грани прострации – приехала с Моррисом Финком и толстяком студентом, обучающимся на раввина, Мойше Маскатблитом; он поддерживал Етту, а у самого лицо было такое бескровное, такое перепуганное и походка такая неуверенная, что он явно сам нуждался в опоре.
Явилось и несколько друзей Натана и Софи – шесть или семь молодых специалистов и преподавателей Бруклинского колледжа, составлявших так называемую «Группу Морти Хэйбера», и с ними сам Морти. Это был человек ученый, мягкий, с интеллигентной манерой разговора. Я уже был немного знаком с ним и успел его полюбить и в тот день на какое-то время прилепился к нему. Похороны проходили в на редкость тяжелой, поистине подавляющей атмосфере торжественности, без намека на какую-либо, самую малую, подспудную разрядку, которая бывает допустима на иных похоронах, – тишина и напряженные несчастные лица говорили о подлинном шоке, подлинной трагедии. Никто не потрудился посоветоваться насчет музыки – постыдная ирония судьбы. Когда пришедшие на похороны стали входить в вестибюль под щелканье и вспышки фотоаппаратов, я услышал плаксивый орган, затянувший «Аве Мария» Гуно. При мысли о том, как Софи да и Натан любили музыку, какие благородные чувства музыка будила в них, эта пошлая, настырная мелодия перевернула у меня все внутри.
Собственно, мое нутро и без того находилось в весьма плачевном состоянии, как и общее равновесие. С тех пор как я сошел с поезда, привезшего меня из Вашингтона, я ни минуты не был трезв и ни минуты не спал. Я бродил по комнате, потрясенный, глаза жгло от бессоницы, и поскольку сон не приходил, то в ночные часы я слонялся по улицам и барам Флэтбуша, шепча: «Почему, почему, почему?» – и накачиваясь главным образом пивом, что поддерживало меня на грани полного опьянения. В таком состоянии, полупьяный, со странным чувством неприкаянности и изнеможения (позже я понял, что это могло предшествовать галлюцинациям от опьянения), какого я еще не испытывал, я опустился на скамью в коммерческом предприятиии Уолтера Б. Кука и стал слушать преподобного Девитта, «проповедовавшего» над гробами Натана и Софи. Собственно, в том, что тут оказался его преподобие Девитт, виноват был не Ларри. Он просто считал, что нужен священник. Но раввин показался ему неподходящим, а католический священник неприемлемым, и тогда какой-то приятель Ларри, или приятель приятеля, предложил его преподобие Девитта. Это был универсалист лет сорока, с наигранно благолепным лицом, светлыми, волнистыми, тщательно причесанными волосами и ярким, подвижным и каким-то девичьим ртом. На нем был рыжевато-коричневый костюм с жилеткой, обтягивающей намечающийся животик, и на лацкане поблескивал золотой ключ ведущего университетского братства.
И тут я впервые полуидиотски, но достаточно громко хихикнул, вызвав легкое движение среди тех, кто находился поблизости. Я еще ни разу не видел, чтобы этот ключ носил кто-либо старше моего возраста, особенно вне стен университета, и оттого человек, с первого взгляда вызвавший у меня отвращение, показался мне еще более нелепым. А как хохотал бы Натан при виде этого пресноводного тритона-гоя! Сидя нахохлившись в полумраке рядом с Морти Хэйбером, вдыхая сладкий аромат цветов, я пришел к выводу, что его преподобие Девитт, как доселе никто другой, пробуждает во мне потенциального убийцу. Он монотонно и нудно цитировал Линкольна, Ральфа Уолдо Эмерсона, Дэйла Карнеги, Спинозу, Томаса Эдисона, Зигмунда Фрейда. Христа он упомянул только раз, и то весьма отдаленно, – мне-то, в общем, это было безразлично. Я все ниже и ниже съезжал на скамье и замурлыкал что-то, пытаясь звуками отгородиться от него, подобно тому как можно включить радио, чтобы отгородиться от других звуков, и впуская в свой оцепеневший мозг лишь самые вопиющие и слезливые пошлости. Эти заблудшие дети. Жертвы эпохи всепроникающего материализма. Утрата общечеловеческих ценностей. Потеря старых принципов упования на собственные силы. Некоммуникабельность!
«Какое фантастическое дерьмо!» – подумал я и тотчас понял, что произнес эти слова вслух, ибо Морти Хэйбер пошлепал меня по колену и я услышал его тихое: «Ш-ш-ш!» – и глухой смешок, показававший, что он вполне со мой согласен. Тут я, должно быть, вздремнул – погрузился не в сон, а в какое-то близкое к столбняку состояние, когда мысли, словно школьники после уроков, разбегаются во все стороны, ибо моим следующим восприятием было жуткое зрелище двух металлических, серых с красноватым отливом, гробов, которые катили по проходу мимо меня на сверкающих каталках.
– По-моему, меня сейчас вырвет, – сказал я чересчур громко.
– Ш-ш-ш! – шикнул Морти.
Прежде чем садиться в лимузин и ехать на кладбище, я заскочил в соседний бар и купил большую коробку пива. В те дни можно было приобрести кварту пива за тридцать пять центов. Я сознавал, что, по всей вероятности, поступаю бестактно, но никто, казалось, не обратил на это внимания, и к тому времени, когда мы добрались до кладбища за Хемпстедом, я уже был хорош. Как ни странно, Софи и Натан были одними из первых, кто занял место в этом совершенно новом некрополе. Под теплым октябрьским солнцем до самого горизонта простирался огромный массив нетронутой зеленой целины. Пока наша процессия двигалась к отдаленной могиле, я не без испуга подумал, не хороним ли мы наших любимых на поле для гольфа. И на секунду мне показалось, что это действительно так. Под влиянием извращенной фантазии или психопатических фокусов, которым иногда подвержены пьяные люди, я представил себе, как поколения за поколениями игроков в гольф ударяют по мячу над Софи и Натаном и, крикнув: «Забил!», возятся со своими клюшками и подносчиками-мальчишками, в то время как души усопших никак не могут успокоиться под потревоженной землей.