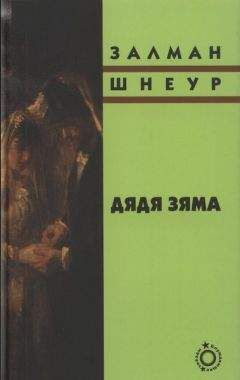— Да, хм… ничего… но почерк… ведь главное почерок!
Шикеле из Погоста все записывал очень чисто. Но не особенно красиво. Почерк у него был несколько ломаный, такой же детский, как и его близорукий взгляд из-под веснушчатых век. Между тем дядя Зяма, сам едва умевший писать, почитал идеалом элегантный, красивый почерок.
Вот ведь, казалось бы, человек разумный, тертый купец, опытный ремесленник, острый глаз, одним словом — наш дядя Зяма! Но нет человека без слабостей. Слабостью Зямы был хороший почерок. Сам всю жизнь писавший каракулями, убивавший часы, чтобы подписаться, Зяма надеялся, что хоть дети выработают хороший почерк. Но его золотая мечта не осуществилась. Гнеся и Генка писали по-женски плохо, тонкими длинношеими буквами. А единственный сын — еще хуже сестер: каждая буква толстоногая, будто в валенках, а головки у букв — маленькие и худенькие. Каждая строчка начиналась с крупных букв и кончалась мелкими, кривоногими, рушащимися со строчки вниз… Зяма видеть не мог записи своего сына. «Это свадьба свиней с сороками, — говаривал он, — а не почерок!» Так что красивый почерк оставался для дяди Зямы мечтой, возвышенным желанием, которое не поддается осуществлению. Красивый почерк виделся ему основой благородства, мудрости, родовитости. Подобно горячо влюбленному, он буквально ревновал к хорошему почерку. В душе Зяма был даже отчасти доволен тем, что Шикеле, его способный племянник, такой честный, так хорошо считающий, хотя бы почерком не особенно превзошел его капризного единственного сына.
— Да… неплохо… Но ведь главное-то — почерок!
Когда дядя Зяма увидел, что счета сходятся, что все подсчитано и записано, что все, что было забыто, вспомнено, что пропавшие долги превратились в наличность, им овладело суетное желание. В один прекрасный день он с утра пораньше дал понять племяннику, что он, Зяма, очень хотел бы знать, какое у него состояние… Хотя это дело трудное, рубль в рубль, наверно, не подсчитать, но хотя бы приблизительно… Примерно…
Шикеле ответил:
— Почему «приблизительно»? Почему не рубль в рубль и не грош в грош? Наоборот…
Шикеле засел за все записочки и бумажки и за все три конторские книги. Он снова и снова вместе с дядей Зямой бегал на склад оценить сырье, полуобработанные и полностью обработанные шкурки. Он еще раз переписал все долги Зямы и все деньги, которые тому причитались. Все сосчитал. И через неделю принес готовый отчет всего на одном листочке почтовой бумаги, с красивой, хоть и кривой чертой внизу и с жирно выписанным под этой чертой итогом.
Из этого листочка следовало, что дядя Зяма, не сглазить бы, богатый человек, владелец шестидесяти тысяч рублей чистыми, не считая домашней мебели, украшений и всего прочего.
Увидев такую цифру, дядя Зяма немного побледнел и оглянулся, не заглядывает ли кто-нибудь в окно. Потом сказал «хм…» и тихо переспросил Шикеле:
— То есть… сказано — сделано?
— Сказано — сделано! — ответил Шикеле.
Дядя Зяма мог только предполагать, каковы размеры его состояния, но то, что оно приближается к цифре шесть с четырьмя нолями, даже не представлял. К нему вернулся былой задор, тот, что у него был еще до изгнания из Москвы, когда он таскал на плечах плюшевые штаны и красные кушаки… Вернулись былые привычки. Он с силой подтянул штаны, затянул потуже ремень и весело проворчал:
— Ничего, Бог поможет!
Зяма принялся расхаживать по комнате и что-то бормотать под нос. Совсем забыл о Шикеле, своем бедном племяннике, который стоял и наблюдал эту сцену счастливыми близорукими глазами; Шикеле был счастлив, что доставил дяде такую радость. Вдруг Зяма подошел к племяннику на своих длинных крепких ногах и нахмурил брови:
— Но… говорить об этом не надо. Понимаешь?
Шикеле только кивнул в знак того, что очень хорошо все понимает и подчиняется дядиному желанию.
Зяме это немое и деликатное согласие очень понравилось. Он похлопал племянника по плечу и весело произнес:
— Ну, Шике, с сегодняшнего дня ты будешь получать четвертную в месяц!
С этого времени стеснительный Шикеле стал замечать, что его красивые кузины обращают на него внимание, а тетя Михля как-то иначе улыбается ему. Почти так же, как его бедная мама в Погосте.
Раньше, с того момента как он поступил «на место» к богатому дяде, кузины совсем не смотрели в его сторону. Старшая, Гнеся, была вежлива и холодна, а младшая, Генка, встречаясь с ним во дворе или в доме, кривилась. Точно так же она кривилась, когда какой-нибудь бедный парень из ешивы приходил «есть свой день»[114]. Теперь же… Не иначе как дядя Зяма его, бедного племянника, открыто хвалил, хвастался его способностями и искусными расчетами, которые он, Шике, произвел. Значит, недавняя неделя напряженного труда не пропала даром.
Черноволосая Генка перестала кривиться. С испугом, но и с некоторым любопытством она стала постреливать в него карими глазками. Но младшая, Генка, не волновала Шике. Его волновала старшая, Гнеся, со светлыми шелковистыми волосами и длинными ресницами. Гнеся заметила, что Шикеле, двоюродный брат, стесняется ее, и тоже начала стесняться. Она стала исподтишка заглядываться на него, и ее большие серые глаза приветливо лучились. Высокая грудь вздымалась. Впервые Шикеле стал замечать, как идеально чиста сорочка на ее девичьей груди, как красиво подрагивают батистовые оборки над ее сердцем. В дому у своего бедного отца он не видел такого снежно-белого белья ни на матери, ни на сестрах… Этот кусочек батиста на Гнесиной груди под цветастой шелковой блузкой стал для Шикеле символом чего-то прекрасного, какой-то иной, лучшей жизни. Со всей своей застенчивой страстью ухватился Шикеле за этот кусочек чистого батиста и стал, держась за него, выкарабкиваться, как из сырого и липкого подвала, из мрака своей бедной юности.
Зрение, обоняние, слух — все его чувства обострились. Шике вдруг увидел, что его красивая кузина Гнеся выступает как пава; почуял, что от нее пахнет ароматным мылом, которое дядя привозит ей из Нижнего; услышал, что ее голос звучит задумчиво и сладко. Он совсем не такой, этот голос, как у его матери и сестер, которые дома, в Погосте, в бакалейной лавочке выбиваются из сил из-за копеечной выручки.
Однажды утром она прошла мимо него в свободной блузе без кушака и в красных бархатных тапочках с синими помпонами, отчего его сердце потом колотилось целый час, а в кассовой и конторской книгах между строчками и цифрами маячили эти красные тапочки с синими помпонами. Шике стал искать повода, чтобы заговорить с Гнесей, и не мог найти.
Между тем Гнесе тоже хотелось поговорить с Шикеле, с этим способным, хотя и застенчивым невысоким пареньком, расспросить его о Погосте, о его сестрах и отце. Ей вдруг стал интересен ее бедный дядя Пиня из Погоста, отец Шикеле, тот самый, который приезжает к ним каждый год в канун Сукес просить в долг, и заикается, и вытирает глаза какой-то неподрубленной тряпочкой. Что это она вдруг прониклась состраданием к своему бедному дяде-растяпе?
Постепенно Шикеле стал чувствовать себя увереннее. Он же все-таки получает четвертную в месяц, да и Зяминым домочадцам не чужой. Наоборот, дядя хлопает его по плечу и каждую субботу приглашает к обеду. И тетя Михля, когда он работает, спрашивает, не хочет ли он стаканчик чая с молоком. А вечером, когда он приходит в свою комнатку к реб Ехиэлу-хазану, у которого ночует и столуется за десять рублей в месяц, то перед сном думает, о чем и как будет говорить в субботу за обеденным столом у богатого дяди, чтобы Гнеся поняла, что он не просто бухгалтер, изучавший бухгалтерию «по переписке». К примеру, он может в разговоре ввернуть какую-нибудь красивую мысль, вычитанную в русской хрестоматии, например, «ученье — свет, а неученье — тьма» или «не все то золото, что блестит». Нет, вот эта как раз не годится. Дядя Зяма может подумать, что это Шике его имеет в виду… Но вот об образовании, например, что «лучше поздно, чем никогда», эта как раз годится. Или другие столь же глубокие мысли. Он должен как-то завести с нею разговор о том, что ей надо поехать в большой город на курсы, как поступают многие дочери состоятельных родителей. А потом, когда она вернется с дипломом зубного врача… Что потом?.. А что потом?.. Он, Шикеле, ведь тоже в это время не будет сидеть сложа руки.
И, видно, Шикеле из Погоста удалось как-то закинуть подобные слова в красивые, холеные ушки Гнеси и посеять эту мыслишку в ее сердце под снежно-белой батистовой сорочкой, грустно колышущейся на полной груди. Где это случилось? Когда? Во время субботнего обеда или в полутемной комнате, где лежат, поблескивая, груды бобровых воротников и пластин из беличьего меха? Этого никто не знает, зато в Зямином доме известно, что Гнеся вдруг стала настаивать на том, что должна ехать учиться «на зубного» в Варшаву или в Ригу… Она должна, потому что, видите ли, «ученье — свет, а неученье — тьма».