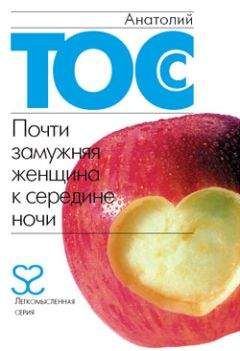Впрочем, и без меня известно, настоящих ценителей мало – пока модным не станет, понимает, что почем, только маленькая толика населения. Так и с Пикассо было, и скажем честно, что, если не считать некоторых очень разбирающихся, женская красота мужскую Инфантову красоту особенно не баловала. О чем Инфант, бывало, в часы зимней вечерней скуки обильно переживал.
Здесь я должен пояснить, что вообще-то он был ранимым в духовных своих переплетениях и нанесенные от женщин обиды чувствовал сильно и глубоко. И потому успешно вымещал их на тех несчастных, кто пал жертвой его, несхожего ни с чьим, обаяния.
«Как он вымещал?» – заинтересуется любой любознательный мужчина, которому, как и всем нам, есть на кого чего выместить. Отвечу коротко – он их лажал! Причем лажал он своих подружек денно и ночно, видимо, интуитивно признавая их болезненную зависимость от его несочетающихся прелестей.
Господи, да о чем это я, кто же это девчонок-то не лажал? И вы, девчонки, – вы ведь, если откровенно, ну, как самой себе, вы ведь тоже никакие не жертвы. У вас тоже свои рогатки да крючки про запас припрятаны. И вы тоже с лихвой порой вымещаете на ком-то: то холостое динамо крутанете, то просто весело раскрутите, пользуясь вечной мужской слабостью – сексуальной тягой навстречу.
Вот так и идет, всегда шла, да и будет идти вечная, как жизнь, межполовая разборка во всех уголках порой заснеженной России при попустительстве, надо сказать, обычно бдительных властей.
Заметим, однако, что раз Инфант был человеком неадекватным, то и лажал он неадекватно. Порой настолько неадекватно, что даже нам, мне и Илюхе, наблюдавшим за процессом со стороны и, в общем-то, привычным к разному, все же порой приходилось опускать глаза. А иногда, когда процесс принимал особую ухищренность, мы вообще отворачивались.
И вот вопрос: ну почему они, бедняжки эти, в общем-то, как правило, нежные, все это терпели? Ну какого рожна? Но ведь терпели. Потому как не только мордой, извините за выражение, брал Инфант и не волнистыми линиями бедра. А зачаровывал он редкие женские сердца куда как более надежными психологическими эскападами.
Дело в том, что Инфантова неординарность подразумевала не только неординарность внешности, но прежде всего мысли. Что особенно бросалось в глаза, когда Инфант делал попытку эту мысль выразить. Короче, из того, что он выражал, ничего понять было нельзя.
Впрочем, не будем спешить с опрометчивыми заключениями. Ведь тот факт, что понять нельзя, не означает, что понимать нечего, – мысль-то порой проскальзывала. Я свидетель.
Поясняю: вот представьте, что встречаете вы где-нибудь в компании подпитого Эйнштейна. И тот, в связи с сильным алкогольным опьянением, тряся кудлатой головой, навязчиво начинает объяснять свою, в данный момент ненужную нам с вами теорию. Но при этом объясняет ее не на понятном языке физики, оперируя привычными лямбдами и константами, а на неожиданном таком языке хинди. Вопрос: значит ли это, что теория его потеряла всякий смысл? Конечно же, нет, смысл в ней есть, но только нам с вами не понять какой. А чтобы понять, требуется специалист-расшифровщик – тот, кто владеет условным языком оригинала.
Так и я кое-как научился Инфантову мысль расшифровывать или, иными словами, толковать. Хотя такое даже для меня, натренированного, было порой непросто. Для постороннего же, с языком оригинала не знакомого, Инфантовы словосочетания оставались таинственной и мистической ворожбой.
В том-то и разгадка Инфантова – пусть редкого, но все же случающегося успеха среди отдельных женщин. Дело в том, что те немногие, напомню, ценители (а ценители всегда народ специфический) узревали в непознаваемом Инфантовом бормотании если и не божественное, то все равно откровение. Как часто все мы принимаем непонятное за откровение.
С точки зрения профессии и сферы материального применения, Инфант являлся человеком совершенно неопределенным. Чем он только не поддерживал свой низкий прожиточный уровень.
В длинный список входил, например, и такой пункт, как написание кандидатских диссертаций. Не себе написание, а другим, которые за все заплатили. Но ведь даже когда заплачено, все равно нужен какой-никакой научный текст. Вот Инфант его и составлял, так как к науке, особенно фундаментальной, он с детства оставался человеком неравнодушным. Видимо, именно поэтому острые научные проблемы его особенно часто донимали.
Помню, как-то раз за преферансом возник вполне практический вопрос: как измерить объем женской груди? Именно с логарифмической точностью измерить.
Выдвигались разные предположения, и даже позвали хозяйку с кухни, чтобы проверить различные технические решения. Но хоть и попадались удачные подходы, все они какие-то тяжеловесные оказывались, не было в них легкой научной изящности.
И кто знает, нашелся бы ответ, если бы не Инфант, который, как всегда, загадочно произнес:
– Притащите корыто.
Когда же кто-то, кто не знал про Инфанта подробно, спросил уважительно:
– Инфант, простите, а зачем вам корыто?
Тот, не отрывая взгляда от черной и красной карточной масти на руках, сказал тихо, как самому себе:
– Хряк!
Все недоверчиво обомлели. И только я, знавший, что не всегда, но иногда за Инфантовыми словами чем-то сквозит, предложил миролюбиво: «Постойте».
Я хочу обратить внимание на слово «корыто». Потому что, если бы Инфант выразился в соответствии с решаемой задачей строго по-научному и попросил притащить большую емкость или широкую колбу… Или пробирку, или какой другой сосуд, пусть даже кастрюлю… Может, кто из недюжей публики тогда и догадался бы, в чем дело.
Но термин «корыто» выглядел каким-то неуклюжим, совсем неподходящим. В нем самом уже заключался отрыв от обсуждаемой темы, что сильно всех сбивало. Но в том-то и дело, что в Инфантовом возбужденном ассоциативном воображении именно слово «корыто» сочеталось с женской грудью. У нас, у обыкновенных, с женской грудью сочетаются, как правило, совсем иные слова, разные, иногда поэтические, часто эмоциональные. А вот у Инфанта – корыто.
Народ же ассоциацию не понял. И только лишь я, верный толкователь Инфанта, нежно взглянул на хозяйку и попросил:
– Пусик, притащи, пожалуйста, корыто.
Я не издевался над девушкой, я, наоборот, старался ласково и имя ее вульгаризировать не желал. Ее действительно именно так приветливо и звали – Пусик.
Пусик растерянно посмотрел на меня и так же растерянно ответил, что, мол, нет у нее корыта. И, помедлив, неуверенно спросил:
– А ведро не подойдет?
– Ведро не подойдет, – все та кже нежно ответил я и для подтверждения посмотрел на Инфанта.
Тот поднял печальные свои глаза и в который раз, проведя ими вдоль по Пусику, подтвердил веско:
– Чудо в перьях! – что, по-видимому, означало, что «нет, не подойдет». Хотя в данном случае я в точности своей интерпретации уверен до конца не был.
Пусик тут же растерялся, но не зря же я умел толковать Инфанта. И поэтому я встал и сложил руки кольцом, заложив пальцы одной ладони между пальцами другой. И сообщил утвердительно:
– Инфант, корыто.
Условность эта, конечно же, его не потревожила, возможно, он ее даже не заметил. А только скомандовал отрывисто, как рубанул:
– Заполняй!
На что я заверил, что все уже давно заполнено, что вода уже до краев внутри. Тогда Инфант по-ковбойски причмокнул, как хлестнул кнутом, и гикнул:
– Гони зверя!
И я понял простую гениальность Инфантова решения.
Впрочем, я по-прежнему оставался в одиночестве в этой тихо обомлевшей, лишь сверкающей изумленными глазами комнате. И потому мне пришлось пояснить:
– Пусик, – попросил я, – подойди, пожалуйста.
А когда милая девушка подошла вплотную, я предложил предельно вежливо:
– Ты не могла бы наклониться?
И пока она любезно наклонялась и ее грудь проникала внутрь расставленного разворота рук, я пояснил для присутствующих:
– Помните из школы закон Архимеда? Вот и здесь объем вытесненной и вылившейся из корыта воды равен объему женской груди.
В зале, то есть в комнате, радостно зашумели и засмеялись изящной простоте Инфантова решения. Но самому Инфанту были ни к чему пустые восторги. Он внимал зачарованному взору распрямившегося Пусика, которая взором этим и касалась, и гладила, признавая и отдавая себя. Так у них и основалась любовь.
Вообще-то, как указано во всех хрестоматиях, идеальное время для любви – конечно же, весна. Когда люди активно избавляются от утеплительных рейтуз и прочих затрудняющих приспособлений, и явно – физически, и неявно – чувством и помыслами становятся открытыми для любви.
Но любовь Инфанта с Пусиком зародилась за несколько месяцев до описываемых здесь событий, а значит, совсем не при пособничестве природы. Скорее наоборот, несмотря на ее подлые препоны, когда еще лютовали морозы и мели метели.