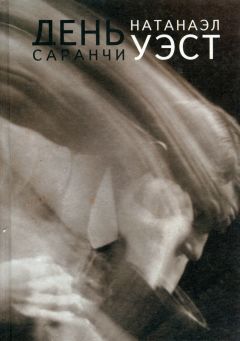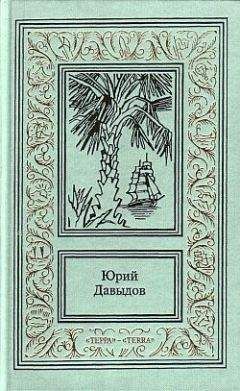Соседский вот старик так и помер: старуху его увезли в больницу, а он пил-пил с мальцами (так у нас называют всех лиц мужеского пола, которые ещё не старики) из соседней деревни. Потом мальцы ушли, а он лежал на печке, лежал — встать не мог. Да и кончился.
Но это, впрочем, грустно. Лучше уж действительно про космос. Где там мои двадцать?
Двадцать грамм. старт
Старт космической ракеты я однажды наблюдал метров с пятидесяти.
Вообще-то запуски в те времена происходили хоть и не каждый день, но довольно часто — где-то раз в неделю. Если ракету запускали с той площадки, к которой мы были приквартированы, нас поднимали среди ночи или же прямо перед обедом, рассаживали в машины и увозили на предписанное инструкциями расстояние. Там мы сидели в машинах или курили возле, потом раздавался грохот, и ракета улетала. После этого мы снова садились по машинам и ехали обратно в часть досыпать или же доедать холодный обед. Вот и весь космос.
Но мне непременно хотелось посмотреть запуск вблизи, так, чтобы как в кинофильме «Укрощение огня»: отходили бы штанги, отсоединялись шланги, ну и вообще. И эту свою мечту я, между прочим, осуществил.
Меня тогда кратковременно и неожиданно назначили заведующим складом при стройплощадке. Стройплощадка представляла собой глубокую, как мечта о дембеле, яму, которую каждый день, кроме воскресенья и календарных праздников, копали к центру Земли мои менее удачливые сослуживцы. Склад мой стоял буквально возле самого старта, и мимо него проходили рельсы, по которым подвозили ракеты — везли их очень медленно — иногда несколько дней, опасаясь, видимо, растрясти драгоценное их содержимое (непонятно при этом, как оно выживало при запуске). Потом её так же медленно поднимали носом вверх, и она несколько дней стояла облепленная фермами и штангами, откуда иногда что-то дымило, наверное, жидкий кислород. Всё это было чрезвычайно увлекательно, и я, когда не спал (а спал я в первые дни службы на складе постоянно), часами рассматривал ползающих по фермам ракетчиков.
Когда дело доходило до запуска, всех — и ракетчиков, и нас эвакуировали от греха подальше. Оставались только несколько человек в бетонном бункере с толстыми бронированными стёклами. О моём же складе, который был просто деревянным вагончиком, отчего-то никто не заботился. Впрочем, и ценностей в нём было немного: краски, лопаты, марля, гвозди, рукавицы да пара отбойных молотков.
Ну и однажды во время эвакуации я храбро спрятался за бидонами с краской и никуда не поехал. Эвакуаторы решили, что я ушёл по каким-то делам в свою часть, и не стали меня искать. Когда всё утихло, я на карачках вылез из-за бидонов и осторожно выглянул в окно: никого не было, ни единого человека. Ракета дымилась белым паром и поэтому напоминала самодельный воздушный шар, построенный коротышками под руководством мудрого Знайки. Всё было неестественно мирно, как было позднее замечено в одной песне.
Никто меня ни о чём не предупредил: не было никакого обратного отсчёта, но ракета вдруг ожила. От неё отвалились все штанги и шланги, и она, совершенно голая, крупно дрожала. Собственно старта я, честно сказать, не видел: всё его продолжение я провёл под столом, ведя уже не обратный, а прямой отсчёт, как всё в том же кинофильме: «одна секунда — полёт нормальный… две секунды — полёт нормальный… три секунды…»
Граф Лев Николаевич Толстой славится, в частности, тем, что в главе про битву при Аустерлице гениально описал замедление времени при охватившем человека ужасе: там князь Болконский смотрит на вертящееся перед ним ядро и думает множество интереснейших мыслей. Феномен этот, впрочем, гораздо доходчивее описан в старой русской поговорке «Баба с печи летит — семь дум передумает», но наблюдение, в целом, верное. Я вёл свой отсчёт уже несколько часов, а ракета всё ещё висела буквально над моей утлой и совершенно не бронированной крышей. Последнее, что я видел при старте, — это была ракета, которая с непереносимым рёвом шаталась, стоя на столбе огня, всё более и более кренясь в сторону моего склада.
В части рассказывали, что вот так же точно в восьмидесятом, что ли, году ракета завалилась на старте и угробила человек восемьдесят (и действительно — недалеко от шестнадцатой площадки, где мы что-то копали, стоял неприметный жестяной обелиск со ржавой звездой, похожий на те, что ставили на кладбищах неверующим покойникам).
Но в этот раз всё, по-видимому, обошлось благополучно и я, совершенно невредимый, вылез из-под стола, немедленно закурил и стал понемногу возвращаться к простой и земной человеческой жизни. Оно, конечно, ничего нет лучше, как после неминуемой гибели остаться вдруг в живых и понять, что жизнь прекрасна сама по себе — просто потому, что ты дышишь и видишь вот этот вот кирзовый сапог. Вот хрустнуло что-то в лесу («Посрать бы», — подумал я — в животе было нехорошо), каркнула, пролетая над дымящимся стартом ворона — что ещё нужно человеку для счастья?
А ещё для счастья было нужно как-то на всём этом деле не попасться.
Самое худшее, что мне грозило в случае обнаружения, — это особый отдел. Шпионом и изменником тогда был каждый второй, а точнее, каждый первый, что подтвердила позднейшая история нашего государства.
Один особист от ракетчиков уже позже, когда я работал батальонным художником, даже зачастил ко мне в библиотеку будто бы читать подшивки газет. Был он человеком чрезвычайно приятным, охотно угощал меня сигаретами с фильтром и вёл разные задушевные разговоры про дембель, девушку, которая наверняка ждёт меня из армии с орденом, и про мать-старушку. Сигареты я брал с удовольствием и в благодарность охотно валял ваньку — так, чтобы он, с одной стороны, не терял ко мне подозрительности, а с другой — нельзя было бы придраться. Это было для меня очень увлекательно, поскольку в те времена я, как и практически все закончившие десятилетку идиоты, был ярым антисоветчиком и кухонным революционером: замирая от гибельного восторга, я, пока особист шебуршал в библиотеке газетами, читал у себя в художке роман-газету шестьдесят четвёртого года с произведением запрещённого до самой последней степени писателя Солженицына про Ивана Денисовича.
Ах! Как мечталось мне тогда о наступлении царства свободы в нашей тюрьме народов! Чтобы по телевизору показывали ансамбли битлз и пинк флойд, чтобы можно было спокойно слушать по бибиси Севу Новгородцева, чтобы в магазинах продавали без очередей кока-колу и американские джинсы. И ведь всё сбылось — всё-всё!
Впрочем, я отвлёкся.
Так и не придумав никакого плана, я предоставил событиям их естественный ход, и, когда возле ямы опять закопошились мои сослуживцы, я вышел из склада, беззаботно вертя на пальце ключи (ключи есть главный аксессуар кладовщика).
«Ты где был?» — спросил меня лейтенант из молодых. «Как где? — неискренне удивился я. — Уезжал со всеми». «Что-то я тебя не видел», — прищурился лейтенант. «Да я с ракетчиками уехал». Лейтенант посмотрел на меня с большим сомнением, но ничего не сказал, и дело на этом закончилось.
Вот что удивительно: я прекрасно помню фамилии всех мерзавцев, под чьим началом служил двадцать лет тому назад (капитан Козляк, майор Жолтиков, прапорщик Нуца, подполковник Иобидзе и проч. и проч.), а фамилию этого самого лейтенанта вспомнить никак не могу. Он был хоть и из молодых (такие обычно рвут жопу, чтобы заметили), но не подлый. И ещё он был чем-то похож на Юрия Гагарина.
Я вот думаю сейчас: может быть, он тогда просто догадался про мою мечту, потому что сам когда-нибудь хотел бы остаться на старте во время запуска? Кто его теперь разберёт.
Деревня. январь. калымщик
Попробовал себя в роли сельского калымщика: привезли с соседом на коню пару возов дров мне и три, как выражается сосед, жардины для соседской бабушки.
Бабушка, как это принято, вынесла нам две сардельки и по стопке чистого спирта.
В далёкой моей навсегда ушедшей молодости я, бывало, иногда выпивал чистый спирт — ощущение было как от стакана проглоченных гвоздей, но через некоторое время можно было отдышаться.
А сейчас уже всё — нет того куража. Так что попросил ещё одну стопку и разбавил напополам.
Дорога в Петербург. станция Дно
Станция Дно всегда славилась варёными раками. Вышел ночью из вагона. Мимо шла старушка: «А вот курочку кому? Пиво!»
«Раки есть?» — спросил я.
«Ушли раки», — сказала старушка горько и побрела дальше вдоль вагонов.
Другая жизнь. Петербург. ритуалы
Когда мне случается попасть на Васильевский остров, я непременно иду в чебуречную на шестой линии. За те десять лет, которые я прожил в Петербурге, в ней не изменилось ровно ничего: всё та же недовольная тётушка за кассой, те же самые влажные чебуреки и те же самые посетители. Старожилы говорят, что в точности так же там было и пятьдесят лет назад и, может быть, даже двести.