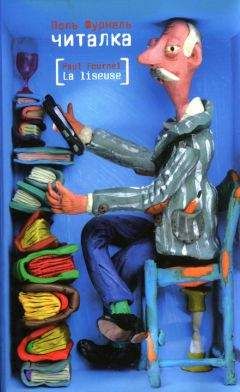На нем темно-синий костюм в тонкую белую полоску. Цвет чуть мрачноватый для свадьбы, зато идеальный для деревенского бала в день местного святого. Он не похож ни на одного из местных мужчин.
Младший Фрашон сильно прижимается к дочке Бувье, их животы уминаются. Он даже пробует незаметно просунуть руку под ее корсаж, чтобы потрогать груди; она не возражает и только бросает через его плечо беспокойные взгляды в сторону столика, за которым сидят ее родители. Ее отец уже слишком пьян, чтобы что-либо заметить. Хотя, на месте Фрашона, он делал бы то же самое.
Он женится на ней не из-за ее денег, поскольку у него они есть!
И потом, два-три клочка земли, которыми она владеет, мало что могут изменить. Капля воды в океан его состояния. Зажигается свет, и она щурится.
Мужчины, одергивая штаны, торопятся в бар, женщины оправляют платья.
Под строгим взглядом мэрши, дылда Симона подает бокалы с красным вином.
Жаннетта выпивает два глотка лимонада. Туфли ей жмут. У оркестра короткий перерыв. Дети бегают по площадке. Матери бегают за детьми, чтобы одеть их и увести домой. Луна уже зашла за холм.
У них будет четверо детей, няня и домработница.
Начинается фарандола. Все оживляются: кто быстрее пригласит.
Он удержит ее незаметным жестом. Они не будут участвовать в шумном веселье остальных, они будут взирать на них с едва заметной усмешкой. Она молча поправит ему сбившуюся в сторону бабочку.
Ее платье задралось снизу, мимо нее ползет гусеница. Напившийся дядя Ферраша, воспользовавшись суматохой, пытается погладить худые ягодицы Мадам Вассерман.
Он склонится над ней предупредительно и нежно погладит ее по щеке.
Он придет, и она выйдет за него замуж не из-за его денег.
Ей тридцать четыре года, но даже если он будет на десять лет старше ее, она выйдет за него замуж.
Она отмахивается от остроконечной шляпы, которую ей предлагает какая-то девчушка. Она отказывается, но девчушка все равно нахлобучивает ей шляпу.
— Оставь ее, любовь моя, — говорит он, — в ней ты похожа на фею.
Ведь он, помимо всего, еще и добрый.
Он придет.
Начинается пасодобль, который учительница Тереза очень красиво танцует. Ученики смотрят на нее с изумлением. Они часто видели ее на школьном дворе, но редко на танцах, да еще в брюках.
В глубине площадки, в тени, мужчины теснятся у туалета. Некоторые, выходя, на ходу застегивают штаны.
Многие семьи ушли, потому что уже поздно.
Он придет.
Жаннетта привстает, оправляет платье, разглаживает складки на животе. Носком правой туфли она оттягивает ремешок на левой. Будет трудно натянуть его снова.
Наступает благодатный момент медленных вальсов. Свет гаснет.
Он придет.
Мужчины вновь тянутся выбирать партнерш. Новый плотник, проходя вдоль скамьи, обходит Жаннетту стороной.
Образуются пары.
Фрашон и Бувье не умеют танцевать вальс, но из последних сил обнимаются посреди танцевальной площадки.
— Нет, мсье, я не танцую с мужчинами в слишком коротких брюках.
Ее капризы являются частью ее шарма.
Он придет, и он женится на ней не из-за ее денег.
Жаннетта закидывает ногу на ногу.
Он будет одет по-простому, в скромный белый смокинг. Он склонится и прикоснется к ней. Он положит свою правую руку ей на спину, выше лопаток, и поведет ее танцевать. Они закружатся в танце. Она чувствует, как раздувается ее платье. Она закрывает глаза. Он улыбается. Вокруг них образуется свободное пространство. Другие танцоры останавливаются, чтобы ими полюбоваться. Оркестр играет все быстрее и быстрее. Еще немного, и их унесет.
На небе уже не видно луны, но звезды еще светятся.
Он склонится к ней и нежно шепнет ей на ухо:
— Пойдемте, Жанна, — он называет ее Жанна, — пойдемте в замок, и будем там любить друг друга.
Машина подъедет прямо к школьному двору. Шофер в черной ливрее откроет для них дверцу. Она опустит стекло и на прощание помашет рукой всей деревне.
От зависти заскрипят зубы.
Он положит руку ей на колено.
Он придет, и у него будут деньги.
За вальсом следует долгий джерк.
Некоторые матери сердятся и тянут детей к выходу.
Некоторые мужчины все еще стоят у бара, а на земле валяется серпантин, конфетти, растоптанные шляпы.
И вот остаются танцевать всего лишь два-три человека. Звезды гаснут. Жаннетта снимает другую туфлю. Мадмуазель Тереза зевает и уходит спать. Певец объявляет, что ночной концерт окончен, благодарит присутствующих и приглашает встретиться здесь же через пять месяцев, на празднике святого Сильвестра.
Он придет. Он приедет в последний момент.
Музыканты складывают инструменты и аппаратуру. Руководитель разворачивает фургон посреди двора и подъезжает к эстраде.
Симона укладывает последние стаканы в коробку. Булочник допивает вино.
В глубине площадки последний раз хлопает дверь в туалет.
Музыкант никак не может засунуть свой контрабас в фургон. Он зевает.
Во дворе, как тень, топчется зеленщик.
Фургон выезжает из двора. У гитариста мешки под глазами.
Дылда Симона заметает остатки бальных аксессуаров под навес, на тот случай, если пойдет дождь.
За холмом светлеет небо, и уже можно заметить на темном фоне елей черную массу Большого Дома.
Зеленщик подходит к Симоне:
— Симона, давай быстрее, скоро утро, я не хочу, чтобы меня видели. Моя машина здесь, рядом.
— Я не против, но сначала нужно все убрать.
Он сует руки в карманы и ждет. Новый плотник крадучись пробирается по стенке и поднимается к Терезе. Симона на него даже не смотрит. Проходит время.
— Поднимите ноги, мадмуазель Жаннетта, и смотрите, как бы я не замела ваши туфли. Вы в этом году опять последняя!
Жаннетта наклоняется. Ее колени гудят. Она берет по золотой туфле в каждую руку, встает и медленно пересекает двор. Уже почти рассвело. Гравий колет ей ноги.
Пока она дойдет до дома, уже успеет наступить утро, а от ее тонких чулок не останется и следа. На праздник святого Сильвестра она купит себе новую пару.
Она решила, что, когда ее груди отвиснут ниже локтей, жизнь уже не будет стоить того, чтобы ее проживать.
Она решила, что ее живот не должен иметь больше двух складок, когда она садится на кровать перед шкафом с зеркалом.
Она уже давно провела воображаемую линию на ляжках, ниже которой ее ягодицы не должны опускаться.
А еще — недопустимо, чтобы ее кожа превратилась в эдакую апельсиновую корку, а под коленями образовались припухлости.
Изучив вопрос с маниакальной доскональностью, она знала, что от этого не спасут никакие диеты, никакие кремы, никакие диуретики, никакие сауны, никакие подавления голода, никакие хлебцы с отрубями, никакие массажные терки и мочалки. Она знала, что все дело в возрасте, а возраст — это болезнь, от которой не излечиваются.
Она так упорно билась, так жестоко боролась против себя самой за каждый прием пищи, за каждый выход, за каждое желание, что была уже не в силах вынести все эти поражения. Она не могла вынести этот дряблый живот, эти вялые щеки, эту мягкотелость; она не могла простить предавшее ее тело после всего того, что она для него сделала: после всей этой стручковой фасоли на гарнир, после всех этих вареных яиц со свежими овощами, после всей этой редиски на постном масле.
И когда однажды утром, в результате тщательного осмотра, ей пришлось признать, что неизбежное произошло, она присела на край кровати, — голая, сгорбленная, с опущенными плечами и расползшимся животом, — и решила покончить с собой. Она остановилась на простом, чистом отравлении и, не колеблясь, выбрала яд.
В тот же вечер она съела три ромовых бабы, два эклера, одну корзиночку и выпила полбутылки шампанского.
Она была не из тех, кто врезает в дверь глазок. Когда звонили, она не задумываясь открывала. Поэтому, когда позвонили, она и на этот раз открыла сразу.
И обомлела. К ней мог в любое время явиться кто угодно, и в этом не было бы ничего необычного; кто угодно, но только не толстуха Клодина.
Однако на коврике перед дверью, переминаясь с ноги на ногу, стояла именно она, Клодина, в шляпе и в черном плаще, с раскрасневшимися после ходьбы щеками и ощущением тягостной неловкости. В руках она держала пакет.
Проникать на ее территорию Клодине никто не запрещал, по крайней мере, формально, но поскольку на прошлой неделе она сделала ей пакость, то теперь ожидала получить ответную пакость, но никак не визит. Вот и все. Тем более, что Клодина была не из тех, кто способен махнуть рукой; она действовала по принципу «ты — мне, я — тебе... да так, что мало не будет» и за каждый удар отплачивала сторицей.
Вот почему, увидев на своем крыльце Клодину, она удивилась.