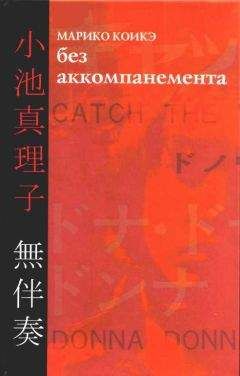— Потому и не рассказывал, что неинтересно, — иронично фыркнул Ватару, сидя на полу со скрещенными ногами. — Но я не возражаю, если ты расскажешь, Эма. Это не настолько большая тайна, чтобы хранить ее за семью замками.
Эма подняла голову и, увидев, что Юноскэ молча смотрит в окно, глубоко вздохнула.
— Юноскэ-сан сразу начинает дуться. Надоел уже. Ну что тут такого особенного? Да таких историй полно!
— Кто тебе дал право так говорить? — низким голосом произнес Юноскэ. — Кто тебе дал право говорить, что таких историй полно?
— Ой, да ладно тебе. Чего так злиться-то? Что я такого сказала?
Сердитым движением руки Юноскэ уменьшил громкость проигрывателя. Звучавший в это время фортепианный концерт Рахманинова отдалился на задний план, а на смену ему пришел неприятный, назойливый звук, похожий на жужжание пчелы, который тут же начал заполнять собою окружающие сумерки.
— Знаешь что, Эма, чужая жизнь — это не то, о чем все непременно должны знать. И это не то, над чем можно иронизировать, как делают некоторые тертые журналисты, да еще и с таким видом, будто знаешь то, чего знать не должна.
— Да я вовсе не хотела…
— Нельзя лезть человеку в душу грязными лапами. Это грань неприличия. Кроме этого, что хочешь делай. Что хочешь говори. Полная свобода. Сравнивай нас, заигрывай с обоими сразу, мне все равно. Только душу топтать я тебе не позволю.
— Но, Юноскэ-сан…
— Может, хватит уже? — Ватару улыбнулся и, наклонившись вперед, успокаивающе похлопал Юноскэ по руке. — Не ссорьтесь. Это того не стоит.
Я подумала, что мне следовало бы что-то сказать, но не сообразила, что именно. Как глупая утка, я в полной растерянности смотрела то на Ватару, то на Юноскэ.
Ватару повернулся ко мне и игриво вздохнул:
— Стоит завести речь о моей семье, он реагирует так, будто это касается его лично. У нас у обоих сильная аллергия на родственников, что у меня, что у него. Одного не могу понять — откуда взялась эта аллергия у сынка процветающего доктора, который, казалось бы, вырос на всем готовом?
Эма сделала недовольное лицо и попросила у меня сигарету. Я протянула ей «Эм-Эф» и дала прикурить от спички.
Юноскэ вернул проигрыватель на прежнюю громкость. Я пыталась рассмотреть выражение его лица, но было слишком темно.
— Мой дед был родом из Киото, — неожиданно стал рассказывать Ватару. Его голос звучал спокойно и тихо. Пожалуй, даже слишком спокойно. Как будто говорил человек, собравшийся в скором времени умереть. — Дед со стороны отца. Там он держал маленькую лавку японских сладостей, которую потом унаследовал мой отец. Так что мы с сестрой тоже родились в Киото. Но когда сестре было пять лет, а мне два, отец заболел и умер. Мать стала заправлять лавкой в одиночку, а поскольку она была женщиной весьма любвеобильной, то в скором времени познакомилась с хозяином магазина «Сэнгэндо» из Сэндая и влюбилась в него. Насколько я знаю, все вокруг ее отговаривали. Но она совершенно потеряла голову. Вплоть до того, что была готова вовсе разорвать отношения с киотоской родней. Она закрыла лавку, вторично вышла замуж и переехала в Сэндай. Нас, разумеется, взяла с собой. Только, как оказалось, атмосфера «Сэнгэндо» ей совершенно не подходила. «Сэнгэндо» — это такое место, где каждый кусочек рисового теста замешан на каких-то заплесневелых моральных принципах и абсолютно феодальных обычаях. Конечно, после маленькой лавки в Киото, где мать была сама себе хозяйкой, здешние нравы подорвали ее психику. А ее новый муж… ну, мой нынешний отец… он опять начал волочиться за бабами и заводить себе любовниц. А матери тем временем приходилось сносить издевки от свекра, свекрови и каких-то других непонятных родственников… В общем, когда мне было девять лет, ее внезапно не стало.
— Самоубийство, — коротко выпалил Юноскэ. На фоне тихих и мрачных звуков фортепиано, льющихся из стереопроигрывателя, это слово прозвучало резким диссонансом. Ватару кивнул: — Да. За домом стоял большой амбар, в котором хранили продукты для сладостей. Вот там она и повесилась, на перекладине. Тридцать первого декабря. Мы с сестрой запускали воздушного змея. Нам его подарила мама. Огромный такой змей. Но по какой-то случайности ветер вдруг стих, и змей зацепился за крышу амбара. Сколько мы не дергали за нитку, он не отцеплялся. Тогда я взял лестницу, чтобы взобраться на крышу, и в этот момент через маленькое окно заглянул внутрь. Вы, наверное, уже все поняли? Сначала я подумал, что мать решила пошутить. Что она зацепилась руками за перекладину под потолком и повисла на ней. Но я ошибался. Сестра продолжала издавать какие-то дурацкие вопли, а я повел себя на удивление хладнокровно. По крайней мере в тот момент. Я ни слова не говоря пошел в главную усадьбу, нашел отца — он сидел за котацу и подсчитывал выручку — и просто потянул его за рукав кимоно. Также молча, чтобы не привлекать внимания бабки, я привел его к амбару. Что было дальше, не помню. Помню только, как сестра плакала, спрятавшись за шкафом в гардеробной. Она тогда все время плакала. Я даже и не знал, что человек может так долго плакать.
Мои руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Я вспомнила о девушке, которая, по рассказам тетки, повесилась в сарайчике во дворе ее дома. История этой девушки смешалась у меня в голове с рассказом о матери Ватару, и в какой-то момент я перестала ощущать между ними разницу.
Ватару почесал рукой затылок.
— Отец не хотел, чтобы люди узнали, что это было самоубийство, поэтому всем работникам «Сэнгэндо» строго-настрого приказал держать язык за зубами. Наверное, поэтому никаких слухов и не было. Он всегда был мастером обтяпывать такого рода делишки. Работникам, которые могли все разболтать, сунул денег, перед другими умело изображал мужа, потерявшего горячо любимую супругу. А потом, не прошло и полугода после похорон матери, он уже привел в дом новую жену. Теперь она моя мачеха. Если ты ходила в «Сэнгэндо» за сладостями, то, наверное, видела такую густо намазанную тетку, которая встречает покупателей у входа. Так это она и есть.
Я молчала. Слов для ответа не находилось. В комнате воцарилась тишина. Окружающие сумерки стали казаться иссиня-черными, словно очень густые чернила.
Прошло пять минут, потом десять. Никто не проронил ни слова. Эма внезапно вскочила и пошла в туалет. В тот же момент, как будто ее уход послужил сигналом, закончилась пластинка с музыкой Рахманинова. Юноскэ снял ее с проигрывателя и степенно вложил в конверт.
Когда Эма вернулась, Юноскэ поманил ее к себе. Эма молча подошла к нему и бесшумно села рядом, растянув свою плиссированную мини-юбку.
— Прости меня, — шепнул ей на ухо Юноскэ. — Чего-то я вдруг…
— Все в порядке. Ты всегда выходишь из себя, если дело касается Ватару-сан. Я уже привыкла.
— Да нет, дело не в этом, — Юноскэ взял Эму за плечо. — Просто сорвался. Извини.
Он попытался обнять ее двумя руками. Низко склонившись к нему, Эма бросила на меня смущенный взгляд. Я сделала вид, что ничего не замечаю.
В окутанной сумерками комнате послышалось до неприличия громкое шуршание одежды.
— Перестань, Юноскэ-сан… Ты что, пьяный? — проворчала Эма, но особенного протеста в ее голосе не ощущалось. Юноскэ не отвечал. Губы вцеплялись в губы, мешаясь слюной; шумные выдохи перемежались со сдавленными стонами. Юноскэ задрал на Эме футболку. Слабо вскрикивая, Эма передернулась в сладостной судороге. Ее грудь, большая и белая, вздымалась в сером полумраке комнаты, похожем на картины неоимпрессионистов.
Я была взволнована, но, стараясь не выдавать своих чувств, сосредоточилась на разглядывании собственных рук, отщипывая заусеницы вокруг ногтей и намереваясь сохранять спокойствие, даже если бы этой парочке вздумалось заняться сексом у всех на глазах. Мне хотелось, чтобы Ватару-сан понял, что я не принадлежу к той породе старшеклассниц, которые принимаются краснеть и визгливыми голосами выражать свое недовольство, едва завидев, как кто-то на людях обнимается, целуется или же позволяет себе еще более интимные действия.
Ватару сидел, прислонившись к стене, уставившись взглядом в одну точку. Ни один мускул у него даже не дрогнул. Я подумала, что он, наверное, сердится. Казалось, будто он хочет сказать Юноскэ, что начинать демонстративные ласки сразу после рассказа о самоубийстве его матери — это уж как-то слишком…
— Мы, похоже, мешаем, — шепнула я ему. Ватару скосил глаза и пристально посмотрел на меня. От его взгляда веяло таким холодом, что невольно захотелось отступить назад. Я закрыла рот.
— Ах… ну, не надо… — несвязно повторяла Эма. — Ведь видят… Все же видят…
Я бы с удовольствием не смотрела, да и не слушала бы, но акт любви, который должен был вот-вот свершиться в углу маленькой, размером в четыре с половиной татами, чайной комнатки, помимо воли возбуждал меня, и одновременно подавлял. В то время моя грудь еще не знала мужских ласк, ни одна рука еще не залезала мне под юбку, и никто еще не заставлял меня стонать, подобно тому, как это сейчас делала Эма. Для меня это было не более чем экранным действом, каких я множество пересмотрела, сидя на затертом стуле моего любимого дешевого кинотеатра, в котором крутили старые фильмы.