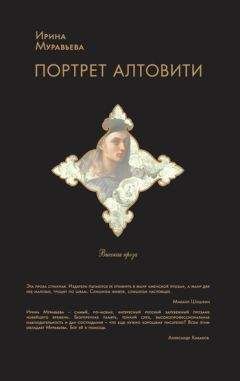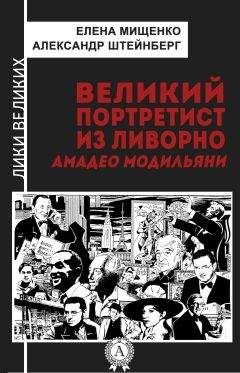Он так нежен со мной, так ужасно ласков, сейчас я уже чуть-чуть больше соображала, чем тогда, в деревне, и разглядела, какое у него было лицо. Глаза закрыты, а все равно кажется, что они блестят. И, когда все кончилось, он закричал! Я прошептала ему: «Тихо!» Мы не встали с кровати даже тогда, когда начали бить часы, просто я сбегала в столовую и принесла шампанское, а потом опять легла, и мы выпили это шампанское, когда Костя уже был внутри меня.
Я, правда, почти весь свой бокал пролила.
«Желаю тебе, – сказал он, – чтобы каждый Новый год мы встречали только так. Слышишь?»
И я с ним согласилась. Потом мы приняли душ, оделись и сели за стол, и нам было жутко смешно. Мы все время умирали от смеха, просто не могли смотреть друг на друга. А потом зазвонил телефон, и я подошла.
Женский голос, довольно приятный, но, как я почувствовала, полный слез, сказал мне: «Позовите господина Гланца». «Его нет дома, – ответила я, – что-нибудь передать?»
И тут она – как завопит!
«Передать! Передать! Что его жена – проститутка и мразь, передай, пожалуйста! Что она приехала в нашу страну и ничего лучшего не придумала, как отбивать чужих мужиков! Что я ей желаю как можно скорее сдохнуть, и чтобы ни одна собака о ней не вспомнила!»
Я не успела даже бросить трубку, потому что там, на том конце провода, началась какая-то борьба, словно у этой женщины хотели вырвать трубку, а она не давала, пытаясь что-то еще мне прокричать, и наконец раздались гудки! Я опустилась на стул, как будто меня толкнули со всего размаху, и у меня было темно перед глазами.
Костя, кажется, перепугался, а я только думала, слышал ли он, что она там кричала, потому что, если слышал, я не буду врать (какой смысл?). А если все-таки не слышал? Тогда я должна быстро что-нибудь придумать: не рассказывать же такое! Даже ему! Но он, конечно, почти все слышал, потому что спросил: «Хочешь побыть одна? Я пойду». И я кивнула, не глядя на него, так мне было стыдно.
Мне было стыдно так, что я не могла пошевелиться. Так стыдно, что я не могла даже взглянуть на него, пока он одевался в коридоре, и, если бы можно было умереть в эту самую минуту – только чтобы никогда больше не вставать, не двигаться, ни с кем не разговаривать, – я бы тут же согласилась.
Он уже открыл дверь, но я – сама не знаю почему – бросилась ему на шею. И он меня очень крепко обнял. Слава Богу, что он ни о чем не спрашивал!
Слава Богу! Мы постояли в коридоре, обнявшись, потом он ушел, а я пошла в свою комнату, погасила свет, легла и стала думать, что мне теперь делать. То, что звонила жена маминого бойфренда, это ясно. То, что она еще будет звонить и непременно нарвется на папу, – тоже ясно. Значит, в моих руках сейчас вся наша судьба. Моя, мамина и папина. Я говорила себе, что надо успокоиться и принять самое правильное решение, но меня мучила почти ненависть к маме за то, что она такое с нами сделала. И за то, что Костя слышал весь этот кошмар! Что он теперь будет думать о нас? Обо мне? Я ненавидела и этого ее бойфренда тоже, потому что он, так же как и мама, заботился только о себе, о своем удовольствии и ни о ком не подумал!
Его жену, которая нам позвонила, я ненавидела потому, что она посмела назвать мою маму таким словом и вообще вела себя омерзительно, позвонив нам в новогоднюю ночь и наговорив мне всего этого!
Папу я ненавидела потому, что мама не любила его, а он делал вид, что все в порядке, хотя ничего у нас не было в порядке, и все это ложь, и, если мама не любила его, нужно было честно смотреть правде в глаза!
Но больше всего я ненавидела себя за то, что во мне столько злобы ко всем ним, и я, оказывается, никого не люблю, кроме Кости! Мне хотелось пойти в ванную и вымыться под горячим душем – так меня всю трясло от злобы! Я боялась, что Костя не захочет приближаться ко мне, услышав все это, или он решит, что я такая же, как мама, или еще что-то!
Господи! Как мне было плохо! Я, наверное, заснула, провалилась и проснулась потому, что они пришли. Я видела их сквозь щель в приоткрытой двери – как они вошли, румяные и веселые, и мама была в своей белой шапочке и длинной шубе, а папа без очков, в клетчатой курточке, толстый и довольный, и с ними пришла эта парочка их московских друзей, и они сразу сели за стол, и мама засуетилась и побежала в кухню, а папа завел негромкую музыку, но мама тут же вернулась и показала глазами на дверь моей комнаты, наверное, желая сказать, что он меня разбудит, но я почему-то вдруг громко крикнула: «Я не сплю, развлекайтесь!»
И тогда они вошли ко мне в комнату – мама и папа, со своими поздравлениями. Они поцеловали меня и ушли. А я записала все, что было. И решение мое вот какое: завтра я все скажу маме».
* * *
Доктор Груберт услышал, что Ева кому-то открывает дверь, и отложил тетрадку в сторону.
– Заснул, пока мы ехали, – сказал уже знакомый ему по телефону голос Элизе.
– Вот, держи.
Доктор Груберт догадался, что Ева отдала чек.
– Ну, я пошел, большое спасибо, – вежливо сказал Элизе.
Хлопнула дверь. Она вошла в комнату со спящим ребенком на руках. Доктор Груберт встал со своего кресла.
Мальчик был очень смуглым, почти чернокожим. На круглой голове его таял снег. Ресницы – густые и длинные – светлее волос.
Доктору Груберту бросилось в глаза то, как маленькая темная рука выделяется на белой коже ее плеча, с которого – от того, что Ева изо всей силы прижала ребенка к себе, – слегка съехала кофточка.
– Спит, – прошептала она. – Я отнесу его в спальню.
– Мне пора, – сказал вдруг доктор Груберт, – я хотел бы подскочить к Майклу. Завтра я не работаю.
– Ты прочитал?
– Не до конца.
– Возьми с собой и дочитай, – сказала она. – Мне это важно.
* * *
День догорал, снега почти не было – остались только его редкие, торопливые поблескивания, летящие с неба.
К домам подъезжали и отъезжали машины, из них выходили женщины с большими, накрытыми фольгой подносами, торопились в гости.
Другие женщины мелькали в проносящихся мимо машинах, накрашенные и разодетые, с напряженно-праздничными лицами.
В церкви было темно, двери закрыты.
Рождественская служба закончилась утром.
Доктору Груберту смертельно хотелось спать, но спать было некогда, нужно ехать к Майклу.
«Я заберу его оттуда, – неожиданно твердо подумал он, вспомнив, как Ева вошла в комнату, прижимая к себе ребенка, и вновь увидел перед собой ее ярко-белое плечо с темной детской рукой на нем. – Я не хочу, чтобы им управлял МакКэрот».
Признаться, что он ревнует Майкла к этому человеку, потому что тот пользуется большей доверенностью его сына, чем он сам, не хотелось.
В поезде он снова взялся за дневник.
«2января, 3 часа ночи. Я не спала совсем, вышла на кухню. Было, наверное, девять или десять. Мама была одна, пила кофе. Я почувствовала, что она нервничает. И я решилась. Хотя я не была уверена, сумею ли я произнести все это – у меня такой звон стоял в голове!
«Мама, – сказала я, – я все знаю про тебя».
Она стала красной и хотела что-то соврать, но я ей не дала и очень быстро рассказала о вчерашнем. На нее было жалко смотреть. Она просто вся уменьшилась на моих глазах, вся превратилась то ли в девочку, то ли в старушку.
«Катя, – сказала она и протянула ко мне руку. Хотела погладить, но я отдернулась, не далась. – Ты еще ребенок, ты не представляешь, что это такое: жить без любви».
«Так зачем же? – чуть было не закричала я, но тут же опомнилась: папа ведь мог услышать! – Зачем же было так поступать? Чтобы все были несчастны?»
«А все и так несчастны», – сказала она.
И опять протянула ко мне руку. Тут я не выдержала, разрыдалась. И это все было просто ужас какой-то! Мама пыталась меня обнять, прижать к себе и тоже плакала, а я не давалась, не хотела, чтобы она дотрагивалась до меня, выставляла вперед локти, и она, в конце концов, упала головой на стол и заплакала так громко, что папа, конечно, услышал и вышел из кабинета.
«Что у вас здесь?» – спросил он. «Ничего. Пожалуйста, уйди, пожалуйста!» – «Почему мама плачет? Ты ее обидела?» Мама сказала: «Уйди, мы сами разберемся, не вмешивайся», – но она даже не успела до конца договорить, как зазвонил телефон.
Я знала, что это опять его жена. И мама это знала. Но папа не знал и снял трубку. Там опять кто-то кричал (конечно, кто же еще!), и сначала папа не понял, а как-то даже шутливо отстранился, как он всегда делает, когда кто-кто слишком громко говорит в ухо. Я хотела нажать на рычаг, но не успела – она уже говорила, вернее, орала, а папа слушал, и у него становилось мертвым лицо.
– Sorry, you probably got the wrong number[3], – вдруг сказал он и бросил трубку на стол рядом с телефоном, как будто она его обожгла.
И хлопнул дверью.
Час ночи. Папа не возвращается. Костя не позвонил вечером. Может быть, он решил меня бросить. От этой женщины тоже ничего. Мама лежит в спальне и делает вид, что спит. Я не хочу с ней ничего обсуждать.
А если мой папа умер на улице?