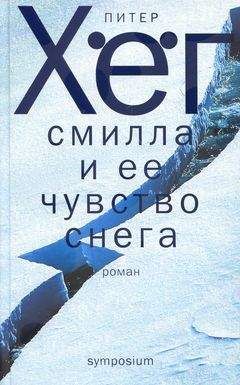Поворачивая за угол и выходя на Дуэвай, я держу в руке шариковую ручку. Мне захотелось записать на тыльной стороне ладони номер одной машины. Но это уже не актуально. Когда я выхожу на угол, никакой машины там нет.
— «Из праха ты вышел».
Однажды, когда мы охотились на люриков, появились кречеты. Сначала это были лишь две точки на горизонте. Потом показалось, что утес рассыпался и поднялся в небо. Когда взлетает миллион люриков, все вокруг на секунду темнеет, как будто в одно мгновение снова наступила зима.
Мать охотилась на кречетов. Кречеты пикируют со скоростью двести километров в час. Как правило, она попадала. Она стреляла никелированными пулями небольшого калибра. Мы должны были приносить их ей. Однажды пуля прошла через один глаз и вышла через другой — мертвый кречет смотрел на нас ясным, проницательным взглядом.
Таксидермист на базе делал для нее чучела. Охота на кречетов запрещена категорически. На черном рынке в США и Германии можно продать птенца-кречета для обучения охоте за пятьдесят тысяч долларов. Никто не смел даже подумать, что моя мать нарушила запрет.
Она их не продавала. Она их дарила. Моему отцу, одному этнографу, посетившему ее, потому что она была женщиной-охотником, одному из офицеров с базы.
Чучела кречетов были одновременно и страшным, и великолепным подарком. Она вручала их торжественно и на первый взгляд совершенно бескорыстно. Потом она как бы между делом говорила, что ей нужны портновские ножницы. Она намекала, что ей не хватает семидесяти пяти метров нейлоновой веревки. Она давала понять, что нам, детям, не помешала бы парочка комплектов теплого белья.
Она получала то, о чем просила. Оплетая гостя паутиной жестокой, накладывающей взаимные обязательства любезности.
Этого я стыдилась, и за это я любила ее. Это был ее ответ на европейскую культуру. Она шла ей навстречу с учтивостью, полной болезненной осмотрительности. И она вбирала ее, оставляя себе то, что можно использовать. Ножницы, моток нейлоновой веревки, сперматозоиды, оставленные Морицем Ясперсеном в ее матке.
Вот почему Туле никогда не станет музеем. Этнографы окутали Северную Гренландию своей мечтой о девственности. Мечтой о том, что inuit всегда будет оставаться той кривоногой, танцующей под барабан, рассказывающей легенды, широко улыбающейся картинкой с выставки, которую, по мнению первых путешественников, они и увидели на рубеже веков к югу от Кваанаака. Моя мать дарила им мертвую птицу. И заставляла их покупать себе половину лавки. Она плавала в каяке, построенном так, как строили их в XVII веке, когда искусство изготовления каяков еще не исчезло в Северной Гренландии. Но она пользовалась запаянной пластмассовой канистрой в качестве буйка для снасти.
— «И в прах возвратишься».
Я вижу, как другим что-то удается. Только сама я не могу найти удачу.
У Исайи все должно было получиться. Он мог бы многого достичь. Он смог бы и впитать в себя Данию, и трансформировать ее, мог бы стать и тем и другим.
Я сшила ему анорак из белого шелка. Даже узор на нем прошел через руки европейцев. Моему отцу его когда-то подарил художник Гитс-Йохансен. Тому подарили рисунок в Северной Гренландии, когда он иллюстрировал большой справочник по гренландским птицам. Я надела анорак на Исайю, причесала, поставив его на крышку унитаза. Он увидел себя в зеркале — и тут это случилось. Тропическая ткань, гренландское преклонение перед праздничным костюмом, датская радость от предмета роскоши — все слилось воедино. Возможно, некоторое значение имело и то, что это я ему его подарила.
Мгновение спустя ему захотелось чихнуть.
— Зажми мне нос! Я зажала ему нос.
— Почему? — спросила я его. Он имел обыкновение сморкаться в раковину.
Едва я открыла рот, его глаза стали следить за моими губами в зеркале. Я часто замечала, что он понимал смысл еще до того, как все было сказано.
— Когда на мне annoraaq qaqortoq, красивый анорак, я не хочу, чтобы у меня на пальцах были сопли.
— «И из праха ты снова воскреснешь».
Я пытаюсь взглядом просвечивать женщин вокруг Юлианы, чтобы понять, не носит ли одна из них ребенка. Ребенка, который мог бы получить имя Исайи. Мертвые продолжают жить в имени. Четырех девочек назвали именем моей матери — Ане. Я их несколько раз навещала и беседовала с ними, чтобы в сидящей передо мной женщине хоть на мгновение увидеть ту, которая покинула меня.
Из ручек по краям гроба вытаскивают веревки. На мгновение меня охватывает безумная тоска. Хотя бы на секунду открыть гроб и лечь рядом с его маленьким, холодным телом, в которое кто-то воткнул иглу, которое вскрывали и фотографировали, от которого отрезали кусочки и снова зашивали, если бы мне еще хоть раз ощутить своим бедром его эрекцию — знак легкой, бесконечной эротики, удары крыльев ночных мотыльков о мою кожу, темных насекомых счастья.
Мороз такой, что нельзя сразу закапывать могилу, поэтому, когда мы уходим, она зияет за нашими спинами. Мы с механиком идем рядом.
Его зовут Питер. Менее чем тринадцать часов назад я впервые назвала его по имени.
За шестнадцать часов до этого. Полночь на Калькбренеривай. Я купила двенадцать больших черных полиэтиленовых пакетов для мусора, четыре рулона скотча, четыре тюбика клея, застывающего за десять секунд, и карманный фонарик «Маглайт». Я разрезала мешки, сложила их в два раза, склеила их. Засунула их в свою сумку «Луи Витто».
На мне высокие сапоги, красный свитер с высоким горлом, котиковая шуба из магазина «Гренландия» и юбка в складку из «Шотландского уголка». Мой опыт подсказывает мне, что всегда легче оправдываться, когда ты хорошо одет.
Тому, что происходит потом, немного недостает элегантности.
Вся территория завода окружена оградой в три с половиной метра, поверху протянута струна колючей проволоки. По моим представлениям, сзади должна быть дверь, выходящая на Калькбренеривай и железную дорогу. Эту дверь я раньше видела.
Но я не видела табличку, которая сообщает о том, что здание охраняется Датской службой сторожевых собак-овчарок. Это совсем не обязательно должно соответствовать действительности. Ведь повсюду развешивают так много табличек с одной лишь целью — поддержать хорошее настроение. Поэтому я для пробы ударяю ногой в дверь. Не проходит и пяти секунд, как за решеткой появляется собака. Очень может быть, что это и овчарка. Она похожа на вещь, о которую вытирали ноги. Возможно, этим и объясняется ее плохое расположение духа.
Есть в Гренландии люди, умеющие обращаться с собаками. Моя мать умела. До того как в семидесятые годы получили распространение нейлоновые веревки, мы использовали для упряжи ремни из тюленьей шкуры. Собаки из других упряжек съедали их. Наши собаки их не трогали. Мать наложила запрет.
А есть люди, рожденные со страхом перед собаками, который они никак не могут преодолеть. К таким людям я и отношусь. Поэтому я иду назад, на Странбульвар, беру такси и еду домой.
Я не поднимаюсь к себе. Я иду к Юлиане. В ее холодильнике я беру полкило тресковой печени. Один ее знакомый с рыбного рынка дает ей бесплатно лопнувшую печень. У нее в ванной я высыпаю себе в карман полбаночки таблеток рогипнола. Эти таблетки ей недавно выписал врач. Она их продает. Рогипнол в ходу у наркоманов. Полученные деньги она использует себе на лекарство, то «лекарство», которое государство облагает акцизом.
В собрании Ринка есть западногренландская история об одном домовом, который никак не мог заснуть и вынужден был вечно бодрствовать. Это потому, что он никогда не пробовал рогипнол. Приняв его в первый раз, можно от половинки таблетки погрузиться в глубокую кому.
Юлиана не мешает мне запасаться продовольствием. Она почти от всего отказалась, в том числе и от того, чтобы задавать вопросы.
— Ты меня забыла! — кричит она мне вслед.
Я беру такси и еду назад, на Калькбренеривай. В машине появляется рыбный запах.
Стоя в свете фонаря под виадуком, лицом к Фрихаун, я, раздавив таблетки, засовываю их в печень. Теперь от меня тоже пахнет рыбой.
На сей раз мне не надо звать собаку. Она ждет меня, она надеялась, что я вернусь. Я перебрасываю печень через изгородь. Каких только историй не рассказывают о тонком собачьем чутье. Я боюсь, что она унюхает таблетки. Мои переживания оказываются напрасными. Она заглатывает печень, как пылесос.
Потом мы с собакой ждем. Она ждет, чтобы ей дали еще печени. Я же хочу посмотреть на то, чем фармацевтическая промышленность может помочь страдающим бессонницей животным.
Тут подъезжает машина. Это фургон службы сторожевых собак. На Калькбренеривай нет места, где можно было бы стать невидимым или хотя бы незаметным. Поэтому я спокойно стою. Из автомобиля выходит человек в форме. Он оценивающе оглядывает меня, но не может найти для себя никакого убедительного объяснения. Одинокая дама в мехах в час ночи на краю Эстербро? Он открывает калитку и берет собаку на поводок. Выводит ее на тротуар. Она злобно рычит на меня. Тут у нее неожиданно начинают подгибаться лапы, и она чуть не падает. Он озабоченно смотрит на нее. Она смотрит на него печально. Он открывает заднюю дверцу. Собака сама ставит передние лапы в машину, но дальше ему приходится втаскивать ее. Он озадачен. Затем он уезжает. Предоставляя меня моим собственным размышлениям о том, как же работает датская служба сторожевых собак. В конце концов я прихожу к выводу, что время от времени они перевозят собак из одного места в другое, осуществляя тем самым своего рода случайную выборку. Сейчас он направляется с собакой в новое место. Я надеюсь, что там для нее найдется какая-нибудь мягкая подстилка, на которой можно будет поспать.