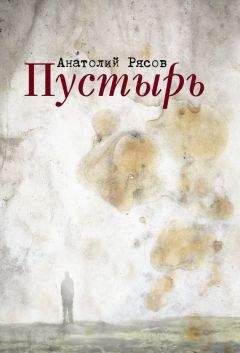Кирпич, сухой цемент и прочий строительный материал ему поставлял старший брат, который работал главным инженером на кирпичном заводе, и потому в поселке лишь вяло удивлялись, следуя скорее укоренившейся привычке удивляться при виде того, что кирпич привозят без задержек, а также при виде качества кирпича. Если бы они знали, что старший брат берет с младшего двадцать процентов сверх государственной стоимости кирпича, готовый объяснить это тем, что дает в долг бывшему заключенному, они бы и вовсе перестали удивляться. Старший брат появлялся всякий раз, когда приезжал грузовик с кирпичом, и молча, невозмутимо наблюдал, как трое мужчин с завода, которые приезжали по его просьбе или указанию, обливаясь потом, разгружают кирпич, а младший брат складывает его широкими, невысокими стопками; невозмутимо стоял в стороне приземистый, несколько толстоватый для своего роста — полная внешняя противоположность младшему брату — с обрюзгшим желтоватым лицом, на котором поверх приплюснутого, широкого, точно каблук, носа блестели, отражая свет, стекла очков. После разгрузки старший брат доставал лист бумаги и карандаш, а младший, присев на кирпичи, писал долговые расписки; старший невозмутимо засовывал их в карман пиджака и молча уходил со двора, а за ним под бешеный лай со баки, посаженной на короткую цепь, гремя обтруханными бортами, выезжал грузовик. И лишь один раз они перемолвились словом; мужчины, разгружавшие кирпич, слышали, как старший брат презрительно сказал — угомони своего кобеля; и тогда младший приоткрыл на мгновение шлюзы своей души, где клокотали запертые водовороты холодной, чистой, бесправной ненависти, и сказал ему сквозь стиснутые зубы — он на то здесь и посажен, чтобы брехать, когда по двору ползают гады.
В начале декабря выпал первый снег, и он, не достроив дом, уехал; рано утром убрал двор, огороженный забором, собрал и сложил инструмент в наспех сколоченный сарай, закрутил калитку проволокой и неспешно, размеренно зашагал по поселку, сжимая в одной руке завязанный веревкой рюкзак без лямок, куда сложил остатки провизии, а в другой — натянутый серой собакой двухметровый кожаный ремень, на конце которого позвякивал тусклый карабин, прикрепленный к широкому грубому ошейнику. Он пошел на станцию пешком, хотя каждое утро туда ходил автобус — железный, дребезжащий ящик с выбитыми стеклами, замененными кое-где фанерой, взгроможденный на полуспущенные колеса, протекторы которых были гладкие, как куриные яйца; когда он проходил мимо магазина, где стоял автобус, толпа посельчан расступилась перед ним, ибо они были уверены, что он не станет ломать линию своего пути в угоду кучке людей, потому что было в нем нечто непонятное, что заставляло его двигаться по невидимым рельсам судьбы с ледяным, но ненавязчивым презрением совсем иначе, чем двигались они сами; и когда он молча прошел между ними, ветер донес до них запах свирепой сырости.
В полдень того же дня инструмент, который он спрятал в сарае, извлекли и увезли на грузовике двое мужчин с кирпичного завода.
Недостроенный дом стоял под снегом всю зиму, как нечто запретное, отталкивающее, словно гибельная священная гора, и каждый житель поселка, ревниво лелея негласный запрет, оберегал недостроенный дом от любых посягательств, не позволяя играть в нем детям, не позволяя бродягам использовать его для ночлега. И лишь один-единственный раз за эту зиму холодные кирпичные стены недостроенного дома послу жили укрытием от ветра старому тщедушному бичу, чьи длинные седые волосы шевелились от насекомых, а одежда стояла колом, потому что в самой одежде было меньше тканой материи, нежели цементной пыли, блевотины и испражнений, смоченных потом скитаний в пору тепла, а ныне превращенных морозом в ледяной хрустящий панцирь, из которого уже невозможно было выбраться, не прибегая к помощи пилы или жаркого огня. Но стоило ему лечь лицом вниз, прикрыв голову худыми дрожащими руками, чтобы унять вой ветра в ушах и защитить лицо от снежной пыли, влетавшей через пустые оконные проемы и разверстые арки будущих дверей, как жители поселка, оповещенные каким-то мальчишкой, вооружившись отточенными лопатами, вилами и цепями, двинулись к недостроенному дому, ведомые странным непонятным долгом, который наполнял все их существо тихим настойчивым гулом раскаленной электрической спирали. Однако едва они приблизились к покосившемуся забору, те, что шли в первых рядах, резко остановились, не осмеливаясь переступить красную черту запрета, пылавшую в их сознании, и лишь гикали и ора ли, размахивая руками в брызгах крика. А когда тщедушный бродяга вылез из дверного проема, неуклюже двигаясь в своей задубевшей одежде, точно в бетонной трубе, подогнанной под туловище, все еще не проснувшись окончательно, так что его водянистые глаза бы ли прикрыты бледными, тонкими, как плацента, века ми, а уши заложены ветром, они вдруг разом замолк ли и застыли, как если бы неожиданно окаменело пламя, окаменели многочисленные искры на той вы соте, какой успели достигнуть до того как окаменело в тишине само время. А затем один из них громко заорал — вот он! Вот он, мать-перемать! — и сразу звуки их голосов посыпались на бича вместе с камнями и кусками льда, которые им удалось выбить из промерзшей земли носками сапог и ботинок; и тогда он с трудом поднялся на ноги и, опутанный сетями усталости и полудремы, покачиваясь, неуверенно побрел в сторону болота к высоким темным вербам, преследуемый пронзительными криками и свистом льда.
Баскаков вернулся в марте следующего года. Первым его увидел слепой мальчик, который вставал обычно за час до рассвета, кожей предчувствуя утро и сидя у окна, опираясь на подоконник, заваленный спичечными коробками, на ощупь мастерил из спичек игрушечные храмы. Он увидел его накануне мартовского праздника, в шесть часов утра идущего по весен ней грязи в фосфоресцирующих сапогах, голенища которых были опущены или обрезаны почти до самых щиколоток; в одной руке он держал рюкзак без лямок, а в другой кожаный ремень, натянутый серой собакой.
Мальчик выронил спички и, испытывая жгучую боль в глубине незрячих глаз, молча, неотрывно, жадно смотрел поверх купола недоконченного спичечного храма на черную несгибаемую спину, на черный, несокрушимый мужской затылок, похожий на тяжелый колокол, и смотрел, изнемогая от яркой боли, до тех пор, пока мужчина и собака не растворились в привычной тьме двухгодичной слепоты.
В шесть часов утра, седьмого марта, он сорвал с калитки проволоку, посадил собаку на длинную ржавую цепь и некоторое время стоял около собачьей конуры, похожей на разваливающийся черный гриб, источенный муравьями, а затем, не переодеваясь, не осматриваясь, ничего не проверяя, взялся за работу, принявшись выметать из недостроенного дома мокрый хлам и сор, нанесенный ветрами за зиму. Этим летом он работал не один — каждый день ему помогали несколько мужчин с кирпичного завода, и почти каждый день к нему приезжал старший брат с клочками бумаги и огрызком карандаша, задерживаясь ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы получить очередную долговую расписку, определяя единолично стоимость строительного материала и рабочей силы, которая ему самому ничего не стоила, потому что дом помогали строить главным образом проворовавшиеся штрафники, желавшие по-доброму уладить дело — между тем главный инженер, он же председатель местного профсоюзного комитета, способствовал тому, чтобы мастера проставляли им в табеле рабочие дни, дабы они получали заводскую зарплату наравне с те ми, кто сортировал кирпич; но если за использование рабочей силы старший брат брал с младшего сравнительно недорого, сопоставляя, видимо, суммы в долговых расписках со средней заводской платой сортировщика кирпича, то за строительный материал — в поселке подозревали, что материал также ничего ему не стоит — он брал втридорога, должно быть, применяя на деле систему компенсационных пошлин, уподобившись тем торговцам, которые хотели установить компенсационную пошлину на творог из молока коровы, выращенной на ферме, с тем чтобы творог был столь же дорогим, как строительство всей фермы; понимая, что хитрости эти никого не обманывают, старший брат, тем не менее, не моргая, хладнокровно прятал долговые расписки в карман, садился на мотоцикл и ехал к нотариусу для их заверения, ничуть, казалось, не заботясь о том, что может стоять за молчаливым согласием младшего брата, который никогда ничего не проверял, не пытался что-либо оспорить, не обращал внимания на цифры и буквы, которые выводила его рука на клочках бумаги так, словно они не имеют к нему никакого отношения.
Дом был полностью закончен в середине сентября; кроме того, он сколотил из добротных брусков и досок два крепких сарая, предварительно свалив и разобрав сарай, сколоченный наспех, сколотил новую конуру се рой собаке и разбросал по двору три машины белого речного песка. И тогда, не потрудившись отряхнуться от стружек и побелки, не потрудившись выбриться или хотя бы соскоблить коросту с угрюмого лица, он пришел на телеграф и отправил в Джезказган теле грамму с одним словом — «Приезжай», — расплатился и, не сказав ни слова, вышел; полная телеграфистка сказала — хоть бы голос подал, дьявол окаянный; та, что принимала телеграмму, сказала — вы ж слыхали, я его спрашивала, спрашивала, а он или кивнет или головой мотнет; третья сказала — кому это он телеграмму послал?; та, что принимала телеграмму, сказала — Баскаковой — и сказала — жена, наверное, а может, сестра полная сказала — откуда у него жена, у дьявола окаянного; та, что принимала телеграмму, сказала — но ведь его фамилия Баскаков; третья сказала — я и фамилию - то его первый раз слышу — а потом сказала — скоро увидим; а полная сказала — еще не скоро — и сказала — Джезказган далеко.