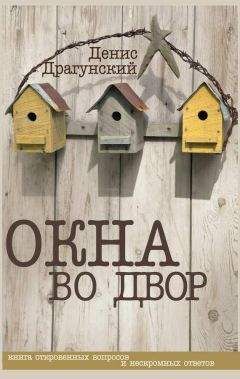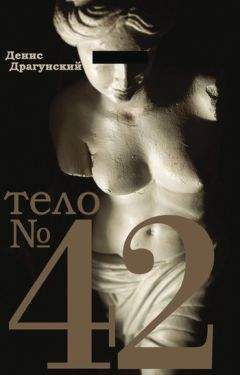Один раз они все-таки увиделись.
Прошлись по улице, потом посидели в садике у церкви.
— Годами втайне размышляя о загадках наших тяготений, — сказал он на своей смеси лирики и канцелярщины, — я понял, что в видах оптимального служения общему делу нам было бы божественно соединить судьбы.
У ног была свежая летняя лужа — только что прошел теплый дождь. Ася заглянула в это рябое зеркало, по которому плавал преждевременный желтый листочек, а у края на цыпочках стоял голубь, пил воду и тоже любовался собой.
Пася был хорош собой. Талантлив, знаменит, богат. А она — живой классик. В юности считалась красавицей. Неплохая пара.
— Погоди, — сказала она. — Ты что, развелся? Когда?
— Как только ты скажешь «да», я объявлю жене о разводе, — сказал Пася. — Прямо сегодня, сейчас.
— Ты слишком рационален, — сказала она, боясь не справиться с собой. — Это едва ли хорошо.
— Мы немолоды, — возразил он.
— Я знала, что ты трусоват, — сказала она, вставая. — Но ты еще и дурак. Жаль.
— Я не трус! — крикнул Пася ей вслед. — Я тебе докажу!
Он попробовал доказать. Очередную свою работу опубликовал за границей. Получил международную премию и большой гонорар. За это его отовсюду исключили. Коллеги публично осуждали. Журналисты писали фельетоны. Он покаялся. Потом умер.
— От страха! — сказала Ася и не поехала на похороны.
Ярослав Смеляков в молодости написал несколько великолепных стихотворений, но потом, видно, советская власть сильно его напугала. Так что огромный его талант был сильно изгажен лояльностью. Отсидев три раза в лагере, он ни разу об этом не говорил вслух, лагерные стихи были опубликованы посмертно. Хотя, конечно, он оставался хорошим поэтом, и даже иногда в его строфах встречались просверки былого. Под конец жизни он совсем спился — не социально (оставался благополучным и весьма уважаемым человеком), а как-то биологически. Пил все время, прихлебывал крохотными глоточками водку из бутылки, которую носил в кармане. Так вот.
Однажды — в середине 1960-х — мы с папой зашли в Дом литераторов, и в холле нам встретился поэт Василий Петрович А., занимавший в Союзе писателей какой-то административный пост. Он остановился поговорить с папой. Вдруг откуда-то слева громко раздалось:
— Василий!
Василий Петрович не среагировал.
Я повернулся и увидел — в тяжелом кресле тяжело сидит хмельной Смеляков.
— Василий! — крикнул он. — Покайся!
Я раньше думал, что это только в книжках так пишут — дескать, ни один мускул не дрогнул на его лице. И вот в первый раз увидел, как это бывает. Литератор-администратор спокойно закончил разговор, неторопливо попрощался и вышел из стеклянных дверей на улицу.
— Покайся, Василий! — неслось ему вслед.
Был еще один раз, когда я созерцал железное самообладание.
Мы с папой обедали в ресторане ЦДЛ. С нами был писатель Сергей Гуров. А за соседним столиком сидел еврейский детский поэт Овсей Дриз, замечательный, добрый старик. Но в этот раз он был какой-то злой. Он кричал:
— Гурлянд! Муля Гурлянд, что же ты не отзываешься? Витя (это уже он к моему папе обращался), ты думаешь, что он Гуров? Что он Сергей? Он Самуил Гурлянд! Он еврей, как мы с тобой! Муля, ты почему стесняешься?
Ни один мускул не дрогнул на лице Сергея Гурова. Хотя все-таки видно было, как ему это неприятно. В отличие от Василия Петровича А., которому было все равно.
Кто-то заболел, кто-то был за границей, кто-то в санатории. А лучший друг и соратник, генерал-полковник-инженер Ярослав Петрович Тарасов, этим утром скоропостижно скончался от инфаркта.
Никто не пришел отметить девятую годовщину смерти академика NN. За большим безлюдным столом сидели вдова и сын покойного. Еще была одна девочка, Оля Карасевич, дочка Генриетты Марковны, его многолетней лаборантки и ассистентки. Она пришла вместо мамы.
— Слава Тарасов даже не позвонил, — сказала Римма Викторовна, вдова. — Не можешь прийти — так хоть позвони! Объявись!
— Разные бывают обстоятельства, — сказал Алеша, сын. Он знал, что Тарасов умер, но не хотел сейчас об этом говорить. — Не злись, пожалуйста.
— Твой отец вытащил его из Омска. Дал целый отдел в своем институте!
— Все, все, все. Давайте лучше выпьем. — Алеша стал разливать. — Помянем.
— Да, — подняла рюмку Оля. — Выпьем за светлую память Анатолия Ивановича, большого ученого и прекрасного человека.
— Не чокаются, — предупредила Римма Викторовна.
Выпили. Разложили закуску.
— А почем ты знаешь, какой он был человек? — с набитым ртом спросил Алеша. — Не люблю весь этот пафос, извини. Вообще отец был сложный человек.
— Я его прекрасно помню, — сказала Оля.
— Вот как? — подняла брови Римма Викторовна.
— Он приходил к нам в гости, — сказала Оля. — Приносил маме всякие подарки. Мне дарил игрушки и конфеты.
— Анатолий Иванович был добрый, любил детей, — сухо сказала Римма Викторовна.
— Вот я и говорю: прекрасный человек, — сказала Оля.
— Выпьем еще, — сказал Алеша.
— Детки, у меня разболелась голова, — сказала Римма Викторовна. — Пойду прилягу.
Посидели, поболтали. Алеша открыл дорогой старый коньяк, рассказал, что это еще отцу подарили во Франции. Попробовали. Ничего особенного.
Он обошел стол, сел рядом с Олей. Положил руку на спинку ее стула.
— Наверное, смешно звучит, — сказал он. — Ты мне нравишься. Очень.
— Ты мне тоже, — сказала она. — Ничего смешного.
— Дай я тебя поцелую.
— Целуй, — сказала она и протянула ему руку.
Он притянул ее к себе, обнял. Она стала отбиваться, чуть не упала со стула. Вырвалась, отбежала к двери. Он подошел к ней, переводя дыхание. Схватил за плечи.
— Лешенька, проснись! — крикнула Оля. — Я же твоя сестра, ты что?
— Врешь! — закричал он.
На крик вошла Римма Викторовна.
— Мама, ты слышала? Мама, она врет? — спросил он.
— Прекрати, — сказала Римма Викторовна. — Олечка, он вам нравится, вы ему тоже, вот и хорошо, и выбросьте из головы эти глупости. Никакая вы ему не сестра. Я родила его от Славы Тарасова. Который даже не позвонил сегодня.
Она обещала позвонить в восемь. У меня родители были на даче, у нее — дома только бабушка: мы обо всем договорились. Она не позвонила. Я набирал ее номер, к телефону подходила бабушка, я бросал трубку. Был июнь, темнело поздно. Но в одиннадцать стемнело совсем. Я зажег свет во всех комнатах.
Вот уже четверть двенадцатого.
Снова набрал номер, попросил ее к телефону.
— Разве можно беспокоить девушку ночью? — ехидный старческий голос.
— Простите, пожалуйста, она мне срочно нужна…
— Она сказала, что будет очень поздно. Звоните завтра!
Решено: еду к ней, буду ждать у подъезда. Хоть всю ночь. Зашнуровал ботинки, плащ накинул. Прошелся по квартире, выключая свет.
Вдруг — звонок. Из прихожей бросился к телефону.
— Привет, прости, тут мы с ребятами собрались на озеро Сенеж. С Ленинградского, на последней электричке.
— Зачем? Какие ребята?
— Просто так, рассвет встречать. Наши ребята, ты их знаешь, ничего такого. Я завтра приеду и буду в твоем полном распоряжении. Ну, пока!
Последние слова резанули неправдой и опасностью.
— Постой! — закричал я. — А можно с вами?
— Ты не успеешь, — сказала она. — До завтра, пока, до завтра.
Ах так! Я вытащил из холодильника сыр-колбасу, бросил в сумку и еще пихнул туда шерстяное одеяло с лебедями, китайское.
Пустая Садовая. Единственная машина шла не в ту сторону. Я загородил ей дорогу. У меня, наверное, была отчаянная рожа. Водитель развернулся через осевую (так тогда назвалась двойная сплошная). У Ленинградского мы были через десять минут. Я дал ему рубль — о, цены 1969 года! Заметался по вокзалу. Электричка стоит, спросить некого, двери закрываются, я впрыгнул наудачу. Прошел через вагоны, мимо сонных стариков и брезентовых рыбаков, и вот вдали голоса, компания с гитарой — и она посредине.
— Привет! Здорово, ребята! От меня не уйдешь!
Веселые голоса, рукопожатия, глоток портвейна из горлышка, она сажает меня рядом с собой, шепчет:
— Я так рада, что ты успел. На такси, да?
— А как же, — говорю я.
Все на нас смотрят. Какое счастье, что я дождался ее звонка.
Мы катаемся на лодке, сидим на бревнах, кутаемся в мое одеяло, целуемся при всех, потом возвращаемся в Москву.
В электричке она кладет голову мне на плечо, и я думаю — какое счастье, какая удача, что я сумел поймать машину, что был везде зеленый свет, что я успел вскочить в последний вагон, я задремываю, судьба, судьба, судьба — стучат колеса. Вот она, моя судьба, спит на моем плече, а вот и я, хозяин своей судьбы, обнимаю ее смелой рукой.