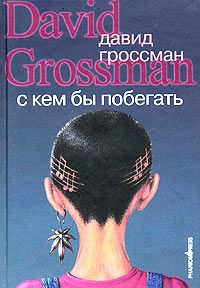Но сейчас всё-таки самый трудный миг. Вот так вдруг стоять в центре города, посреди движения на пешеходной части проспекта Бен-Иегуды, по которому ходила миллион раз, как обычный человек, свободный человек...
... Ходила с Иданом и Ади, лизали "Магнум" после репетиции хора или сидели и пили капуччино, смеялись над новым тенором, русским парнем, который без зазрения совести смеет конкурировать с Иданом в сольных партиях. "Тоже ещё горластый крестьянин с Уральских гор", – бормотал Идан в свою чашку и слегка шевелил крыльями носа, давая знак им обеим хохотать до слёз; Тамар тоже смеялась, даже громче, чем Ади, может, чтобы не слышать, что она думала о себе в эту минуту. И так продолжала смеяться в течение всего того периода, потому что не могла противиться чуду, что впервые в жизни она принадлежит к иронизирующим, к маленькой сплочённой компании, которая уже год, два месяца, неделю и один день вместе, трое молодых артистов, редкостный братский союз, члены которого верны друг другу. По крайней мере, так ей верилось.
Сейчас она должна пройти здесь совершенно одна, найти себе место на подходящем расстоянии от пожилого русского, играющего на аккордеоне, и так, посреди привычного течения улицы, остановиться, встать в определённой точке, а кто-то уже смотрит на неё чуть озабоченно и обходит с недовольным выражением, и она тут же чувствует себя маленьким листочком, который решил повернуть против течения реки. Но сейчас нельзя колебаться, нельзя думать, даже не помышлять о том, что кто-то может её узнать и спросит, что это за кошмар. И как наивно – или глупо – было верить, что, сбрив волосы и нарядившись в комбинезон, можно так уж сильно измениться. И вдобавок ко всему – если кто-то на минутку засомневается, она ли это, то, увидев Динку, сразу её узнает. Как глупо было брать с собой Динку! Ей сразу же стали ясны все допущенные оплошности, цепь ошибок и небрежностей в её плане. Как это получилось? Смотри, что ты наделала! Что ты возомнила о себе, маленькая девочка, пытающаяся изображать Джеймса Бонда. Она остановилась, съёжившись и слегка согнувшись, будто получая удары изнутри: как ты не догадалась, что именно это и произойдёт, что в самый ответственный момент вылезут все швы и дырки, с тобой ведь так всегда, правда? Всегда, при столкновении с реальностью, воздушный шарик твоих фантазий лопается прямо тебе в лицо... Люди обходили её с двух сторон, ворчали и толкались. Динка издала короткий пробуждающий лай. Тамар выпрямилась. Закусила губу. Всё, хватит себя жалеть. Для сомнений нет времени, слишком поздно, чтобы передумать. Раскройся, слушай команды. Нужно поставить большой магнитофон на каменный цоколь, включить, прибавить звук, ещё и ещё, здесь не комната, здесь улица, это Бен-Иегуда Стрит, забудь о себе, сейчас ты только инструмент, с этой минуты ты только прибор для выполнения твоей задачи, не более того, слушай звуки, любимые звуки, звуки его гитары, гитары Шая, представь, как его длинные медовые волосы падали ему на щёку, когда он тебе играл у себя в комнате, дай ему окутать тебя, растопить, и точно в нужную минуту...
Susanne takes you down
To her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
And you know that she's half crazy
But that's why you want to be there…[15]
Долгими днями колебалась, с какой песни начать свою уличную карьеру. Это тоже надо было спланировать, точно так же, как спланировала и рассчитала запас питьевой воды в пещере, количество свечей и рулонов туалетной бумаги. Сначала думала спеть что-то известное на иврите, Юдит Равиц или Нурит Гальрон, что-то тёплое, ритмичное и личное, что не будет её напрягать и хорошо сочетается с улицей. А с другой стороны её так и подмывало это постоянное искушение сразу же поразить их чем-то совершенно неожиданным, второй арией Керубино из "Женитьбы Фигаро" Моцарта, например, и с первого же мгновения ясно и сильно заявить о себе и о своих намерениях на этой улице, чтобы все тут же поняли, насколько она отличается от всех остальных здесь...
Потому что в воображении её храбрость была безгранична. В воображении её голос разливался вдоль и поперёк всей улицы, заполняя каждое пространство и нишу, все люди погружались в него как в смягчающий и очищающий раствор; в воображении она пела высоко, почти до комичного, чтобы с самого начала взорвать их высоким тоном и бесстыдно отдаться лёгкому себялюбию, которое всегда затуманивает её, когда она так поёт, опьянённая наслаждением безостановочного взлёта из самой глубины себя до головокружительных высот. Наконец она выбрала всё-таки "Сюзан", потому что ей нравилась эта песня, и нравился тёплый, потерянный и грустный голос Леонарда Коэна, а больше всего потому, что думала, что ей будет легче, по крайней мере, вначале, петь на чужом языке.
Но уже через пару секунд пения что-то нарушилось: она поняла, что начала слишком слабо, слишком неуверенно. Нет харизмы, выносит приговор Идан у неё в голове и закрепощает её. Что с ней творится. Только бы всё не разрушить. Единственным в её сложном плане, что давало ей уверенность в себе, было как раз пение. А теперь оказывается, что даже это намного труднее, чем она предполагала. Что петь здесь означает разверзнуть себя и самую свою сущность глазам улицы. Она борется с собой и понемногу побеждает, и всё же это так далеко от того, о чём иногда отваживалась мечтать – что сразу, с первого звука вся улица, затаив дыхание, будет бурно покорена ею. Разве не в мельчайших подробностях воображала, как мойщик окон на втором этаже "Бергер-Кинга" прекращает свои сверкающие кругообразные движения, как продавец соков останавливает свою соковыжималку посреди горького рёва морковки...
Но погоди, не отчаивайся так скоро, вот один человек, там возле обувного магазина, остановился и смотрит на тебя. Стоит пока на достаточном расстоянии, как бы ни при чём, и всё-таки слушает тебя. Она пробует каплю храбрости. Выпрямляется, наполняет голос:
...And she feeds you tea and oranges
That came all the way from China
And just when you mean to tell her
That you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer…[16]
И как это бывает в потоке реки, или улицы, когда одна ветка застревает, вокруг неё сразу же скапливаются другие. Это закон, это физика движения в потоке. Рядом с мужчиной, который слушает её у обувного магазина как бы невзначай, останавливается ещё один. Уже шесть или семь человек собрались там. Вот уже восемь. Она выравнивает дыхание, сдерживает карусель, за которой вдруг устремляется её голос, и отваживается поднять глаза и мимолётно взглянуть на свою немногочисленную публику, человек десять, которые собрались вокруг...
That you've always been her lover
And you want to travel with her
And you want to travel blind[17]
"Легче, легче, не давить, дышать снизу, от пальцев ног дышать!" – слышит она внутренним слухом Алину, обожаемого деспота. – Не вздумай петь с таким сдавленным горлом, х-х-х! Х-х-х! Как будто ты эта, Цецилия Бартоли..." – Тамар улыбается про себя, скучая по своей учительнице, взбираясь ради неё по воображаемой лестнице от горла до тайной птицы в центре лба; и Алина, которая сама немного похожа на птичку, быстро отскакивает от рояля, шурша слишком короткой юбкой, одной рукой продолжает играть, а вторая – на лбу у Тамар: "Пожалуйста! Браво! Теперь слышно! Может, и на прослушивании услышат?"
Но Алина готовила её к пению в концертных залах, в праздничных концертах или мастер классах, с известными дирижёрами или гениальными оперными режиссёрами, проносящимися с визитами из-за границы; или на заключительных выступлениях хора в конце года перед приглашёнными гостями, с гордым маминым взглядом (папа приходил неохотно, и однажды она даже видела, что во время её пения он что-то читал у себя на коленях); иногда приходила пара, друзья родителей, лица которых мягчели и светились, когда она пела, девочка, которую они знали с рожденья, которая родилась с мощным криком и даже акушерка сказала, что она будет "певчихой в опере", и есть её фотография в трёхлетнем возрасте, где она держит вилку утюга и поёт...
А теперь вот – провал, а что же ещё, жаль, слишком быстро. Но ведь так ясно было, что именно это и случится с ней здесь, ведь всё же не стоит забывать, дорогие родители и друзья, что здесь стоит она, та, у которой ничего нельзя предвидеть заранее; она, которая словно обязана предать себя как раз тогда, когда она более всего в себе нуждается. Вот так, сладкая моя глупышка, тут, и правда, не на кого надеяться, даже на тебя саму, особенно на тебя.
И вместе с паникой приходит прозрение, крысёнок прозрения носится у неё в животе и кусается. Она ещё поёт, непонятно, как, но мрачные мысли быстро сгущаются в другие слова, в её знаменитые чёрные гимны. Только бы случайно не запеть их.