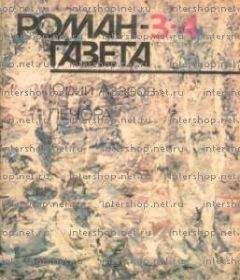Есть во мне радостная готовность принять в себя праведность, принять, чего бы это ни стоило, принять и никогда ей не изменить. Потому и Аввакум запал в душу, и его ученица боярыня Морозова покорила меня своей страстной неотступностью. Я, должно быть, маньяк, у меня маньяческая жажда справедливости. Она, эта праведность, не может быть сытой, не может быть, успокоенной. Она всегда в слабых. Потому и Саша Абушаев не выходит из моей головы… Я, должно быть, тоже виноват в его смерти. Недовоспитал, не заронил в его сердце жажду истинного терпения, жажду милостивости, будь бы это в нем, не стал бы лезть он в драку, отошел бы от своей смерти.
Я и тогда сознавал свою неправоту в том, что в душе презирал и отталкивал от себя Рубинского и Бреттеров. Не прав был, мудрости мне недоставало. Потому и лез на рожон — и с теми, кто был против меня, и с теми, кто решительно поддерживал.
— И другой случай, — говорю я, опять же невпопад, потому что снова пересеклись глазные пронзительности: из бреттеровской темноты очки блеснули, к Екатерине Ивановне кинулся взор Рубинского и с удивленно-растерянным взглядом Оли, моей ученицы, скрестился. А я занят своим, и не могу это свое им поведать, потому что оно, это мое, во мне и в Афонь-киных глазах, которые я сейчас вспомнил, когда он этак запросто рассказал, как на жене своего брата женился, которого на войне убили и у которого четверо ребят было; мальчик слепой лет двенадцати, сидел в углу этот мальчик и все ручонкой по другой ручонке водил, пальчиками тоненькими свою ладонь приглаживал, точно ласкал себя, и глаза у него были голубенькие, совсем не слепые вроде, только чуть косоватые. И Афонька смеялся: «Ей куды их девать было, вот и стал с ними жить». И ничего я теперь не помнил, только общий настрой Афоньки засел у меня в груди и сейчас плескался почему-то через край в этой теплой уютной комнате. И на меня глядели мои добрые знакомые и понять не могли, о чем это я вдруг. А как я им мог рассказать о том, как Саша Абушаев пел, и как плакал, и как врал о своей любви, а на самом деле никакой любви не было, только письма отчаянно-нежные писал девушке, которую всего-то и видел в жизни два раза, и эти письма я потом прочел, когда эту девушку нашел после смерти Сашиной. И почему-то теперь, в этом бреттеровском уюте, к моим воспоминаниям об Афоньке и Саше Абушаеве еще и комната Вани Золотых примешалась, где в углу клубочком Ванечкин отец пьяненький лежал него мать, лучистая бежевая старушка, у окна сидела, и ее глаза были в тысячу раз светлее и этого пучка яркого света от лампы с абажуром, и Сашины глаза были в тысячу раз ярче этой изящной теплоты, и от всего Афонькиного лица шла такая душевность, которая никакой литературой не может быть описана. И это Афонькино родство с близкими своими, это родовое человеческое чувство и душевностью никакой нельзя назвать, потому что не было здесь никаких специальных установок на проявление каких-то особых нравственных свойств. Как дерево, как трава, как кусты рябины растут только вверх и радуют глаз человеческий, так и Афонька в силу своего естества двигался в строго определенной своей природной заданности, которая нравственностьюоборачивалась, потому что в ней фальши не было никакой, потому что вся жизнь Афонькина в такой радостной трудности развивалась, что ее и сравнить-то ни с чем нельзя было.
А как я мог об этом рассказать? Когда я и сам не знал, как это все на белом свете происходит. Для Рубинского, положим, и Афонька, и Саша, и Петруша Золотых с моим Ванечкой — так же безразличны, как лес, как водный простор Печоры, как эти багровые низкие тучи. И я винить их ни в чем не могу, потому что О1ви совсем другие люди, люди, взращенные этим особым теплом, этой особой, пахнущей кожаными ко-, решками книжностью, и для этой книжности все у них приспособлено — и длинные осторожные пальцы, и острый пристальный глаз за стальными у Бреттера и роговыми у Рубинского очками, и эта яркость абажура над столом, и приглушенно-салатная там, у стеллажей. — В каждом из них книжная мысль засела внутри и размножилась, потому что каждодневно питается новой мыслью — вот сейчас о западниках и славянофилах, а завтра о зулусских племенах, и еще перескачет в дальний Египет, когда только стало складываться религиозное чувство в стройную систему, а потом и все узлы исторические будут развязаны основные — и Бисмарки, и Борджиа, и Бироны, и Иван Грозный, и Петр Великий, и императрица Екатерина Вторая, и все это не зряшные воспоминания, а по делу найденные и приведенные, приведенные вроде бы как не голые пустые единичности, а как всеобщие законы противоречивого исторического развития, в котором отдельный человек, вроде Афоньки или Саши Абушаева, просто не в счёт.
Я начинаю остро ощущать разницу между своим собственным представлением о мире и их видением картины человечества. Моя раздробленность вся скроена из ощущений — и взгляд человеческий, и сбитые пальцы рук, и черные пальцы женщин, которые и на пальцы никак не похожи, а так, сучки в блестящей кожуре, живые корни живых растений, приспособленных к спорым движениям, и голоса, хриплые и стонущие, бойко-задорные и размашисто-уверенные, с ласковыми неожиданными словами, которые душу греют и надолго в памяти остаются, и грубые запретные слова, которые в обычности теряют смысл своей запретности, потому что над этими словами запретными иная, не запретная, а открытая сила стоит — сила привычного-безразличия к слову, к формальному смыслу, которая ни во что превратила всю роскошь семантической цивилизации. Когда Афонька двенадцатилетней дочке вдруг ни с того ни с сего сказал впервые при мне матерное слово, я едва не завалился под скамейку: думал, громы и молнии взметнутся, мир перевернется, а дочка ничего не сказала, ласково в мою сторону посмотрела, будто извиняясь, заголубела грустью: «Это у нас никак не в счёт», и потом, когда я в новгородских местах был и там за столом при детях матом перекидывались- и тоже никакого смысла не вкладывали, и чёрствости не было, когда мать ругалась, и жестокости не было, когда отец то и дело словечком матерным прихлестывал, — я уж внимания никакого не обращал, хотя и тяжело это было ощущать, как цивилизация на глазах твоих опрокидывается. И из памяти лезла другая конкретность: годовалая девочка голенькая, темно-красное тельце, завернуто в мазутную фуфайку, фуфайку с холодным блеском заселенности и с клочками серой ваты на рукавах, и на печечке, не на русской, а на обыкновенной, дед, разбитый параличом, в синих штанах байковых и в валенках, где подшитость отстала давно и, должно быть, при ходьбе неудобно задирается, и глаза деда — куски стекла, политые глицерином, и серая щетина на лице — седая сбившаяся шерсть, и мальчик, мой ученик, невинно глядящий на крохотную комнатку: вот так мы и живём.
И тогда я вспомнил, как сам жил, снимал угол где-то на заводской стороне, когда студентом был, там тоже девочка была, лет шести, и как ужаснулся я, когда увидел, как что-то живое и телесно-красное выползает у нее из заднего прохода, и как кинулся к девочке, и как она не плакала, потому что привыкла к тому, что у нее кишка наружу выходит, и мать её спокойная пришла, как ни в чем не бывало, точно говоря: ничего страшного, и действительно, все установилось у девочки, и сели мы чай пить с ее матерью и с девочкой, только уснуть, я потом не смог и гнал мысли об этой девочке, и через месяц нашёл другой угол, и там уже совсем забыл навсегда, думал, о девочке, а тут вдруг у Бреттеров вспомнил и об этих всех душевных тяжестях, видно, грузом болтались они, привязанные к моей раздробленности.
А их раздробленность вобрала не мои, а свои собственные ощущения, на которые сначала изнизалась, а потом плотно спрессовалась книжная мысль, которая теперь в разговоре за оранжево-ярким столом отслаивалась и выходила наружу ровными дольками, и на столе выстраивалась в сизым дымом вуалилась, тоже слоями, в воздухе, в тепле ухоженном. И в этой их раздробленности были свои тревоги, которые я не отрицал, но которые подчеркивали мою чужеродность.
В какой-то момент я ловлю себя на том, что во мне где то подспудно живет подленькое и гаденькое чувство, чувство, предающее те лучшие мои начала, какие сейчас никому не ведомы и составляют тот пласт моей прегадкой основы, которая навсегда для всех должна остаться тайной. Впрочем, в этом я никак не уверен, потому что добрые и даже несчастные глаза Бреттера заглядывают в глубину моих тайных прегадких свойств: едва заметную усмешечку, впрочем, добрую, щедрую и даже прощающую, я различаю на его лице, и от этой возможной разгадки мне немножко делается не по себе. Легкий озноб пронизывает тело, я опускаю глаза и почти физически ощущаю, как накатывается на меня состояние самоуничижения. Как же можно так: ко мне с добрым сердцем тот же Рубинский, тот же Бреттер, та же Екатерина Ивановна, с такими добрыми ожиданиями их дочь Оля Бреттер, а я здесь же их предаю, здесь же, в их доме, за их столом противостою им, корю их за то, что у них где-то и когда-то была радость: и от этих витых ложечек — вилочек, и от образования, какое удалось получить Рубинскому, и от того, что есть возможность помочь тёте Даше, которая не на стройке в холоде мается, а в тепле добрым людям служит.