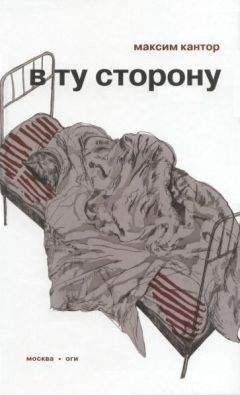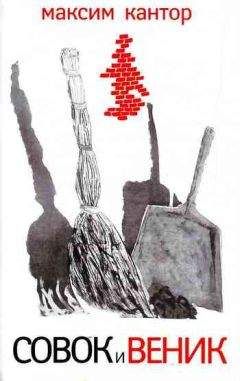Зашел сосед, врач-гинеколог Вова, принес свежие газеты, положил стопку газет Татарникову на ноги.
— Круто повернулось. Пурга! — отозвался Вова о содержании газет. — Почитай на досуге.
— Ничего, кроме досуга, не осталось. Высокий досуг. — Он не знал, знаком ли Вова с Аристотелем, понял ли Вова шутку. — Так что твоя теория, не работает? Выходит, есть кризис?
— Получается, что есть. — Вова-гинеколог с досадой стукнул ладонью по стопке газет — и кровать качнулась, и боль качнулась в животе Татарникова. — Всего они, конечно, не пишут, между строк читать надо. Я так думаю, не договорились. Решение приняли верное, а потом не договорились.
— Так всегда бывает, Вова, — тихо сказал Татарников. — Решили защищать Россию, а не договорились как. Решили демократию строить — опять не договорились. И с финансовым капитализмом то же самое.
— Не договорились! — Вова расстроился, ему трудно было расстаться с мыслью о мировом порядке. — Но может, еще договорятся!
— Ты на них посмотри, Вова. Могут такие договориться?
Вова помолчал, ничего не сказал, переживал за глобальные планы цивилизации.
— А твои дела как, Вова? Домой собираешься?
— Пора, пора домой.
— Поправился, Вова?
Гинеколог не распространялся, что именно с ним приключилось и как он, дипломированный врач, дошел до положения пациента в больнице, что же он такое проглядел. И на старуху бывает проруха, заметил Вова, и Татарников понял так, что даже и врач не знает доподлинно, что в теле у человека происходит. Вслепую, наугад — вот как они лечат, думал Татарников. Раньше, в Средневековье, люди лечили сразу всего человека, как цельное явление, а сегодня один врач лечит пятку, другой — ухо, и как ухо связано с пяткой, знать не знают. Раньше смотрели на цвет мочи и знали, что происходит с коленями, — может, и наивно, конечно. А вдруг нет? Раньше астрономы видели связь далекой звезды с болезнью живота, а сегодня у нас один специалист по прямой кишке, а другой по кишке двенадцатиперстной — и договориться меж собой не могут. Может быть, от этих ворон, что каркают за окном, и приключается рак, а никто этого не знает. Может быть, моя болезнь происходит от того облака? Вот и дворники-татары в каждом дворе кричат одинаково, вот и вороны, и облака здесь такие же, как и в нашем дворе. Надо изучать закономерности бытия и лечить душу, а не тело. Вова-гинеколог все-все про некоторые болезни знает — а что толку? Либо понимаешь, как мир устроен в целом, либо вообще ничего в природе не понимаешь.
Он спросил у Вовы, как устроен глаз, и гинеколог-Вова оказался неспособен рассказать. Как же так, думал Татарников, ведь невозможно лечить то, что внизу, и не знать то, что наверху. И то же самое в экономике: люди верят в деньги, а деньги теперь никак не связаны с трудом людей. Разве это в принципе возможно, чтобы у символа была жизнь отдельная от того, что он символизирует? Сердце символизирует чувства, но оно не живет отдельно от человека, который эти чувства испытывает. Есть только одна вещь, которая живет в организме и делается важнее организма, — это рак.
Этим нехитрым открытием Татарников поделился с пришедшей проведать его женой.
— Лечит почку, а про глаз не знает! А Вова, между прочим, хороший врач, он на машине ездит. Если врач плохой, он на машину не накопит.
— Подумаешь, машина, — сказала жена, — что тут особенного. Сегодня, кроме нас, все на машинах ездят.
Татарников подумал, что ловко обманул судьбу. Вывернулся. Вместо того чтобы думать об упущенных возможностях, о заработке, о статьях, которые надо пристроить в журналы, о переводах, которые надо выпросить, — вместо этой унизительной суеты он лежит в тихой палате и может не отвечать на упрек жены.
— Не накопили мы на машину, — повторила жена, да и осеклась: неуместно про машину говорить.
Да, получилось неплохо, думал Татарников. И ведь не нарочно, а получилась словно бы спланированная тактика. Заболел раком, и крыть вам нечем. Нет у меня машины и не будет. Извините, не получилось, прокатить не могу. И за квартиру платить нечем. И зарплаты нет. И не упрекнешь, неловко вам меня упрекнуть. Ну что вы мне можете сказать? Виноват, виноват, неловко мне, граждане. Ах, какой конфуз. Он посмеялся бескровными губами.
И совсем не стыдно, странно, совсем не стыдно за то, что не смог накопить. Не равнялся я на лучших людей нашего общества, не сумел соответствовать. Не получилось накопить, граждане. А теперь какие уж накопления.
— Не в том месте у меня накопления, — сказал вслух Татарников, и жена его заплакала.
Имуществом Татарников распорядился давно. То, что обычно тревожит умирающих, а именно — как бы не обделить родню, его давно не тревожило. Он много лет назад решил, что иметь ему ничего не следует, тогда и забот будет меньше. Квартиру переписал на жену, а дачку, доставшуюся от деда, переписал на сына, живущего в Канаде. Ему казалось, что он распорядился по справедливости: сын от первого брака любил приезжать в подмосковную дачу, а жена, напротив, к деревенскому быту была равнодушна. И главное, никто не в обиде, а с него и спроса нет.
— Ничего больше нет, переживать не за что, — обычно говорил Татарников другу юности Бланку. — Завтра помру, и никто не станет спорить из-за наследства. Нет наследства, — и Татарников разводил руками.
— Ты бы хоть какие метры себе оставил, — говорил осторожный Бланк.
— Собственность в России — только лишние хлопоты, — отвечал Татарников, — здесь каждый день надо быть наготове. Придут за тобой — а ты пиджак взял, и на выход.
— Подумай, — говорил Бланк, который знал жизнь, — как бы тебе не пожалеть.
Татарников удовлетворенно подумал, что он оказался прав. Бланк видит его правоту, теперь-то Бланк понимает. И жалеть ни о чем не пришлось. Ловко устроился.
Жена плакала, уткнувшись головой в больной живот Татарникова.
— К тебе отец Николай придет, — говорила она животу Татарникова, — придет и причастит тебя.
— Какой еще отец Николай? А, Колька Павлинов, пусть приходит. Скажи ему, что я свободен, может зайти в любое время, — и, довольный шуткой, Сергей Ильич растянул губы в улыбку.
— Ты отнесись к отцу Николаю серьезно, а я с целителями сеансы провожу.
— С какими еще целителями?
— Тайская медицина. Они на Востоке такое знают, чего мы не знаем. Они только на твою карточку взглянули — и сразу диагноз сказали.
— Делать тебе нечего. Ты лучше газеты почитай, — попросил ее Сергей Ильич, — и мне потом расскажи. Что у них там происходит, не знаю. Вова говорит, что Борис Кузин написал большую статью про империю. Чуть власть наметила поворот, а Кузин уже дорогу показывает. Ученый, одно слово.
— Вот видишь, — не удержалась Зоя Тарасовна, — люди статьи пишут, высказываются.
— Империя, — сказал Татарников. — Самое время говорить про империю, когда все развалилось.
Зоя Тарасовна поправила рыхлые подушки, сбила их в комок, подложила под затылок Сергею Ильичу.
— Ты поспи, — устало сказала она, — зачем тебе газеты. Только расстраиваться. Фондовые рынки опять упали. Куда страна катится.
Антон был студентом исторического факультета и писал диплом по истории Второй мировой войны, точнее по мирным договорам сорок пятого года. Пафос работы был очевиден. Коричневая чума охватила мир, мир пришел в негодность, но демократия сплотилась и победила чуму. В сорок пятом, когда демократия, наконец, восторжествовала, был учрежден новый мир — тот самый, в котором теперь жил Антон. Фундамент справедливого мира был заложен именно тогда, после страшной войны. Основания нового мира дипломник и собирался описать.
Антон прилежно изучал протоколы переговоров, переписку лидеров. Он не смог поехать в Европу работать с архивами, а российские мидовские архивы полной картины событий не давали — даже по знаменитой конференции в Цецилиенхофе, которую мы именуем Потсдамской, имелось несчетное количество разночтений. Мешало то, что советские протоколы велись в манере косвенной речи, а западные воспроизводили речь прямую. Поди разбери, что более соответствует истине, если прямая речь — в неизбежном переводе — не всегда точно транслирует смысл предложения, а косвенная — заведомо искажает. То, что итоги войны будут впоследствии неоднократно пересмотрены, — так, роль России (на это сетовали русские профессора) сегодня преуменьшали, а роль союзников (так считалось в России) преувеличивали, — это было уже понятно тогда. То, что Тегеран, Ялта и Потсдам демонстрировали единство, которого в природе никогда не существовало, — ясно. Например, определение западных границ Польши по Одеру и Западной Нейсе как было предметом споров, так и оставалось нерешенным окончательно: формально Запад и сегодня продолжал рассматривать Верхнюю Силезию как территорию, принадлежащую Германии. Изгнание миллионов немцев с их земли — чем оно отличалось от изгнания русских, украинцев, тех же поляков? И мир, закрепленный Потсдамскими соглашениями, — чем этот мир стал для изгнанников, обреченных на голод? Беженцев раздевали донага и грабили, выводили из эшелонов и расстреливали — делали это уже не нацисты, но победившие демократы, поляки, партизаны, иногда солдаты регулярной армии. И гуманные западные демократии смирились с этим — взяв в обмен на судьбы немцев Силезии иные судьбы, судьбы других людей в других странах. У них имелись приоритеты в Африке, на Среднем Востоке, в Палестине, в богатых нефтью краях — и миллионами немцев можно было пожертвовать в долгой игре. Как писал Черчилль министру иностранных дел Идену: «Учитывая цену, которую мы заплатили России за нашу свободу действий в Греции, мы должны, не колеблясь, использовать английские войска для поддержки королевского правительства». Это было сказано перед расстрелом демонстрантов и началом гражданской войны — и тогда в освобожденную от фашистов Грецию был переброшен 3-й британский армейский корпус. Вот так — словно играли в шашки: игрок отдал шашку слева, зато взял у противника шашку справа. Но при чем же здесь мир?