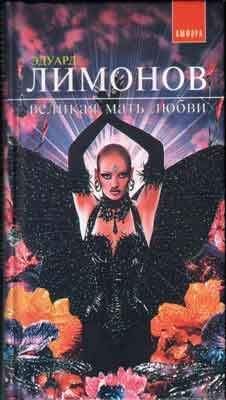— Даже желудок от нее стал болеть в санатории. — Слесарь надорвал новую пачку «Беломора» и вынул папиросину. — Надо бы провериться сходить в больничку. В понедельник пойду. Может, временно пить брошу, чтоб язву не нажить ненароком… Ну а ты-то как тут пробавлялся? Денег небось так и нет? Давай на завод устрою? Со мной будешь работать. Сколько можно жить впроголодь, Эдь?
Как-то незаметно они сошлись. Молчаливый, тяжелый, большелицый медведь-слесарь и парень, приехавший с Украины в Москву, чтобы научиться здесь писать стихи лучше всех. Живущий без прописки и выдающий себя за студента. «Мы знаем, что ты никакой не студент», — сказала ему как-то маленькая, толстая как клоп, бабка-коммунистка, стоя на кухне, подбоченившись. Дед Сережа парил в громадной сковороде свое любимое блюдо — коровье вымя. Удушливый запах пареного вымени почти лишал юношу сознания. Выпивший уже свою бутылку водки — дневной рацион, — пенсионер дед Сережа подмигнул ему из-за бабкиной спины. «Мы знаем, что ты не работаешь и не учишься. Но мы никому не скажем, — продолжала она. — Ты хороший парень…»
Хороший потому, что бедный. Потому, что очень часто нечего жрать. Завидовать ему соседи не могут. Он живет куда хуже их. Первым, приглядевшись к нему, стал подкармливать соседа слесарь Толик. Первое время юноша отказывался. Потом стал принимать дары. Котлету с парой вареных картошек. Яблоко. Пельмени.
Примитивная ниша в стене, образца 1926 года холодильник, служил населению квартиры как бы погребом. (В 1926 году был построен дом на Погодинской.) Продукты быстро портились, потому и жадные бабка Елена и дед Сережа совали юноше куски. Небрезгливый, поедая их пищу, он все же старался не особенно ее разглядывать…
— А куркули-то наши все на даче? — спросил слесарь. — Допей, а Эдь… Чтоб она меня не соблазняла… — Он вылил остатки водки в стакан фальшивого студента.
— На даче. Дед один раз приезжал, за пенсией. Взял какие-то тряпки, инвалид.
— Вот хорошо, хоть одни поживем. Если погода не испортится, они там до конца октября проторчат. Пока всю картошку не выроют. Жадные куркули, боятся на день землю оставить, как бы десяток картошек или огурцов не уперли… А ты все с мужней женой спишь, разбойник?
— Все с ней, Толь. Ругались, правда. Но теперь помирились…
— Удивляюсь тебе… Что ты в ней нашел, Эдь. Тощая… Мордочка, правда, ничего, но ноги уж больно тощие.
Фальшивый студент улыбнулся. У рабочих свои стандарты женской красоты. Женщина, согласно их стандартам, должна быть «в теле», то есть иметь увесистые груди, крупный зад, ляжки. На Украине такие существа с улыбкой называют «Визмэш в рукы — маэш вэщ». Но он не стал высмеивать соседа и не попытался убедить его сменить критерии женской красоты.
— Пойду всхрапну! — слесарь встал. — Сковородку помоешь, Эдь?
— Такточ…
В дверь позвонили.
— Твоя, наверное. — Стеснительно ухмыляясь, слесарь отпер дверь. — Сашка!
— Здорово, Егорыч! С возвращением. Иду, гляжу — окно открыто. Думаю, Егорыч прибыл из санатория… — Маленький Сашка — водитель самосвала, приятель Толика, явился с визитом. Он живет в соседнем подъезде.
Приятель, да, но одинокий Толик снисходительно считает Сашку пропойцей и очень близко к себе не подпускает. Держит его в ежовых рукавицах, согласно народной поговорке.
— Я спать, Сашка, намылился. Устал с дороги…
— А как же приезд-то обмыть, Егорыч? Я думал…
— Тебе лишь бы повод к поддаче найти, Сашка. Успеем еще. — Большой и сутулый, в трикотажных черных брюках, в тапочках на босу ногу, Толик загораживал Сашке путь. Однако тот ловким боковым маневром проскользнул в прихожую и уселся на дедов-бабкин сундук. Над сундуком в запыленных матерчатых мешках висят тоже дедо-бабкины вещи. Куркули, естественно, и барахольщики… Сашка не хотел уходить, ему скучно. Суббота.
— А может, сообразим, ребята? — обратился он за поддержкой к краснорубашечнику. — Вот и Эдь присоединится. Правда, сосед?
«Ребята» гуляли вместе Первое Мая. Наряженный в черный костюм и галстук солидный Толик и сосед Эдик, выпив по рюмке водки, отправились утром на демонстрацию. Праздничный утренний майский холодок действительно, согласно словам песни, «бежал за ворот» кожаной шоферской куртки юноши и его народной, вышитой по вороту крестиком рубашки. Они солидно вышагали, два холостяка, до станции метро «Кропоткинская» и, найдя дальнейшее продвижение в становящейся все более густой массе народа уже не приятной прогулкой, но утомительным трудом, повернули обратно. Выглядели они как отец и сын или два брата разных поколений. Сбросившись по трешке, они приобрели, отстояв очередь в гастрономе на Смоленской площади, две бутылки портвейна и бутылку водки и не спеша пришагали на Погодинскую. Выкричав с улицы всегда готового на такие подвиги Сашку, пришли в комнату к Толику и уселись вокруг стола. Сашка принес от себя винегрет. Эдик — две банки шпрот, основную же закуску поставил запасливый Толик.
Когда позвонила Елена (в день Первомая они не могли увидеться, но она проверяла его), он сообщил ей, подойдя к висящему в коридоре телефону, что отмечает праздник трудящихся со слесарем и водителем самосвала.
— Шутишь? — сказала она.
— Нет. Пью с соседями.
— Спустился к народным массам?
— Может быть, поднялся…
Снобизм Елены его всегда раздражал. Он не питал интеллигентских иллюзий по поводу рабочего класса, не ожидал от рабочих особой честности или чистоты, но презрения у него к ним не было. Как и во всякой другой социальной группе, среди рабочих были и говнюки и личности, подходящие для того, чтобы водить с ними дружбу. Во всяком случае, ханжества среди рабочих куда меньше. Грубые они, это да.
— Ну что ж, не смею задерживать, — сказала обиженная Елена. — Иди к своим слесарям.
«Ревнует», — подумал он. Даже к невинному застолью с соседями.
— А ты иди к своим фарцовщикам, — отпарировал он.
Муж Елены — Витечка, небольшого роста лысый человек в очках официально числился в художниках-иллюстраторах, чем действительно и занимался со рвением энергичного еврея, делающего деньги. Однако основной его профессией было квалифицированное избавление северных областей России от культурных богатств. Изымание продуктов национального религиозного искусства у населения. Некогда он занимался этим сам, в сапогах посещая север, но в дальнейшем перешел на более крупную роль. Грабили северных старух и стариков личности помоложе и попроще, Витечка же принимал этих личностей у себя на кухне и, отбирая у них мешки и сумки с иконами, отсчитывал им билеты Государственного банка Союза Советских. Спустя дни или недели эти же иконы занимали места в портфелях и сумках личностей с несоветскими паспортами, а Витечкины карманы облагораживала иностранная валюта. Спя с женой Витечки, поэт Эдик, разумеется, презирал его, ведь как возможно удержаться от презрения к сорокапятилетнему богатому типу, с юной женой которого ты спишь.
— Фарцовщикам! — воскликнула она. — Витька рисует мой портрет, он очень хороший художник. Если б ему не нужно было зарабатывать деньги…
— Он был бы гением, как Дали или Пикассо, — язвительно закончил за Елену поэт.
— Ты в дурном настроении, потому я лучше позвоню тебе завтра, — сказала Елена и положила трубку.
Он не был в дурном настроении, но тотчас стал после ее звонка… Толик выпроводил все же Сашку и ушел спать, а юноша вышел из подъезда и, пройдя по Погодинской к Новодевичьему близкому монастырю, уселся у пруда, среди багряной и желтой кое-где листвы и стал глядеть, как плавают лебеди. Водка шибанула-таки в голову. Иногда количество лебедей удваивалось. Обычно он встречался в парке с Еленой, ведущей на поводке пуделя, но Елены в городе не было, она отдыхала с Витечкой на Рижском взморье.
В комнате соседа голо очень. Пусто, чувствуешь, что живет в ней холостяк. Круглый стол покрыт клеенкой, как кухонный. Четыре стула… Книг нет. От женатой жизни осталась двуспальная кровать с шишечками… Склонив большую голову набок — редкие длинные волосы зачесаны назад, большие зубы обнажены и чуть тронуты желтой пленкой никотина, — Толик смеялся. Во второй половине дня ему нужно идти на глубокий анализ желудка, заглатывать кишку, потому его освободили от работы. Он был доволен. Настоящий рабочий всегда несоразмерно рад даже увечью, если оно влечет за собой освобождение от работы. Однако парадоксальным образом Толик вышел на работу на два дня раньше. Он мог бы еще находиться в оплачиваемом отпуске. Психология рабочего человека удивительно нелогична.
— Ну и что доктора-то говорят?
— Да ни хуя не говорят. — Лицо слесаря становится серьезным. — Еще четыре анализа осталось. Желудок у меня всегда был нежным. Стоило срубать вчерашний кусок колбасы — и пожалуйста, сразу отравление. Потому я больше двухсот грамм никогда не покупаю.