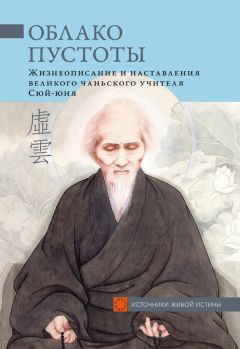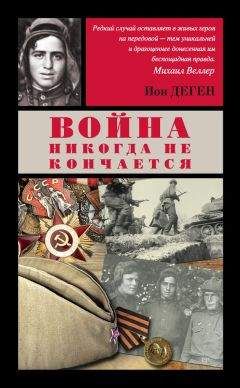Как-то, переполненный впечатлениями, я вышел из его кабинета. Был поздний вечер. В коридоре и в смежных кабинетах ни души. Совершенно подсознательно я стал что-то насвистывать, не замечая этого. Дурная привычка. Такое случалось со мною даже во время операций, когда я увлекался. Сейчас я шел и думал о силе и безбрежности знаний, о людях, которые посвящают себя науке, думал о Мительмане.
Когда в следующий раз я пришел к Юде Нохемовичу, он вдруг попросил:
— А ну-ка, Иона Лазаревич, высвистите снова финал скрипичного концерта Брамса.
Я посмотрел на него с недоумением.
— Это же вы свистели тогда вечером, расставшись со мной?
Я вспомнил и начал насвистывать. Юда Нохемович тихо подпевал аккомпанимент оркестра. Морщины на востреньком лице разгладились, и во всем его облике появилась какая-то несвойственная ему мягкость и расслабленность.
Мы стали вспоминать куски из скрипичных концертов Паганини, Бетховена, Мендельсона, Винявского, Сен-Санса.
— А какой скрипичный концерт вам нравится больше всего? — спросил Юда Нохемович.
Я подумал и ответил:
— Бетховена.
— Следовательно, вы любите скрипку.
Я не понял, почему «следовательно», и сказал, что больше люблю фортепьяно, а скрипка вызывает у меня чувство настороженности и беспокойства. Я боюсь случайного постороннего звука, если смычок вдруг мазнет струну, и вообще…
Юда Нохемович хмыкнул:
— Правильно. Поэтому не надо «мазать», а становиться виртуозом в своей области искусства, науки, ремесла. В любом случае, если вы и дальше будете проявлять такое усердие, то специалиста в рентгенологии костно-суставной системы я из вас сделаю (а без этого вообще не может быть хорошего ортопеда-травматолога), хотя я не могу гарантировать, что в рентгенологии вы станете Яшей Хейфецом. А скрипка, конечно, божественный инструмент. Нет лучшего.
Спустя несколько лет, когда мы уже давно не работали вместе, Юда Нохемович подарил мне очень редкую в Киеве и вообще в Советском Союзе грамофонную пластинку — произведения Сен-Санса и Сарасате в исполнении Яши Хейфеца. На конверте своим нервным, но разборчивым почерком он написал: «Ионе Лазаревичу Дегену, признающему только мастерство. С любовью Мительман».
Я получал огромное удовольствие, наблюдая за Юдой Нохемовичом на институтских конференциях и на заседаниях ортопедического общества.
Каждый спорный случай он отстаивал как жизненно важное личное дело. Для него не существовало авторитетов. Иногда он так горячился, что, казалось, научная дискуссия может кончиться для него трагедией. В такие минуты он напоминал мне боевого петуха.
Я знал, с каким глубочайшим уважением он относился к профессору Фруминой. Я знал, как профессор Фрумина высоко ценит уникальные знания, порядочность и утонченную интеллигентность Мительмана. Но, когда возникал спор между Мительманом и Фруминой, у непосвященного могло сложиться впечатление, что два кровных врага сцепились в смертельной схватке.
Юда Нохемович не признавал предположительных диагнозов. Подобного максимализма я не встречал ни у одного из врачей. Либо диагноз был ему ясен, и он четко формулировал его, либо говорил: «Не знаю», хотя никто не сомневался в том, что у него были определенные соображения по поводу диагноза, при этом, значительно более близкие к истине, чем у кого-нибудь другого.
В отличие от меня, в ту пору Мительман знал, что не все научные работы в институте делаются чистыми руками. Он страдал от этого. Но страдал молча. Правда, Мительман не вмешивался только до той поры, пока дело не касалось рентгенологической документации клинического исследования или эксперимента.
Однажды рентгеновский техник под страшным секретом рассказала мне о беседе (если это можно так квалифицировать) Юды Нохемовича с младшим научным сотрудником института, подленьким человечком, делавшим одновременно партийную и научную карьеру. Она случайно оказалась в лаборатории и услышала, что происходило в кабинете Юды Нохемовича.
Мительман должен был выступить оппонентом на защите диссертации пронырливого карьериста и попросил его принести все рентгенограммы эксперимента.
В течение какого-то времени в кабинете царила тишина. Затем рентгентехник услышала, как Мительман сказал:
— Я отказываюсь быть вашим оппонентом.
— Почему, Юда Нохемович?
— Мне, конечно, следовало оставаться вашим оппонентом и завалить эту липу, растоптать, уничтожить, опозорить вас на всю жизнь. Но, увы, в нынешних условиях нельзя остановить вас и вам подобных. На какое-то время, возможно, я вас остановлю, если мой голос не окажется гласом вопиющего в пустыне. Но это только чуть-чуть замедлит вашу карьеру. О, вы далеко пойдете!
— Я не понимаю, какие у вас претензии ко мне.
— Не понимаете? Молодец! Кстати, вы любите Рембрандта?
— Я не знаю, о чем вы говорите.
— У Рембрандта была любимая модель — Саския. Рембрандт неоднократно писал ее. У вас тоже оказалась любимая вами модель — единственная собака в эксперименте, бедро которой вы запечатлели на рентгенограммах один, два,… восемь раз, записав в протоколе, что вы прооперировали восемь собак.
— У вас нет доказательств.
— У меня есть доказательства. Вот они. Не забудьте, что я работаю рентгенологом сорок лет.
— Каждая рентгенограмма с прооперированной мной собаки.
— Убирайтесь отсюда вон и не забудьте захватить с собой эту липу!
Мительман зашел в лабораторию. Пока он наливал воду, стакан дрожал в его руке. Даже красный свет не мог скрыть бледности его лица.
В день защиты диссертации Мительман был на работе, но не пришел на заседание ученого совета, членом которого был, и на котором был обязан присутствовать.
В ту пору я еще ничего не знал о столкновении Юды Нохемовича с мерзавцем, сделавшим все-таки намеченную карьеру.
Зато случайно я оказался свидетелем другого столкновения.
Меня вызвал к себе исполняющий обязанности директора института.
Ничего хорошего, как и обычно, этот вызов не предвещал. В дверях приемной я столкнулся с секретаршей.
— Посидите, — предложила она и вышла, дымя сигаретой. Я сел на стул у самого входа в кабинет. Дверь была слегка приоткрыта. Из кабинета доносился лающий голос исполняющего обязанности директора. Ему кто-то тихо отвечал. Поэтому сперва мне не удалось определить, кто находится в директорском кабинете. Когда диалог поднялся до трех форте, я понял, что исполняющий ссорится с Юдой Нохемовичом.
До меня уже дошли слухи о предстоящем докладе Мительмана на ортопедическом обществе.
Говорили, что он проверил сотни рентгенограмм — результаты операций по методу исполняющего обязанности директора института, получившего за этот метод Сталинскую премию.
Юда Нохемович обнаружил, что неудовлетворительных результатов в несколько раз больше, чем в статистических данных, сообщенных автором метода.
Началось с того, что в одной истории болезни Мительман заметил существенное расхождение между клинической оценкой результатов операции и рентгенологической картиной. Он решил, что это случайная ошибка врача из клиники сталинского лауреата.
Юда Нохемович пригласил врача и предложил ему исправить запись.
Врач мялся, изворачивался, даже пытался убедить Мительмана в правильности клинической оценки, затем напомнил, в какой клинике осуществлена операция, к тому же, самим лауреатом.
Сразу же после этого неприятного разговора Юда Нохемович пошел в архив и наугад взял несколько историй болезни пациентов, прооперированных в клинике исполняющего обязанности по методу лауреата.
Врачей он уже не приглашал. С присущей ему дотошностью он стал изучать сотни историй болезни. В результате появилась работа, которую Юда Нохемовмч решил доложить ортопедическому обществу.
Нетрудно было догадаться, что разговор в кабинете директора закипал именно по этому поводу.
— В последний раз я предлагаю вам держать язык за зубами! — Рычал исполняющий.
— Даже будь у меня зубы, я не держал бы за ними язык, а у меня уже вставные челюсти.
— Послушайте, И-у-да Нохемович, вы забываете, какое сейчас время и кто вы есть. Да я скручу вас в бараний рог!
— Послушайте, су-дарь, — в тон ему ответил Мительман, — во все времена в течение трех с лишним тысяч лет мой народ скручивают в бараний рог. Но скручивающие исчезают с лица земли, а мой народ остается, чтобы пережить очередного антисемита, подчеркивающего звучность моего имени, которым, кстати, я горжусь. Это имя моих предков. А ваше имя вы позаимствовали у греков. Честь имею. Встретимся на ортопедическом обществе.
Юда Нохемович стремительно вышел из кабинета. Полы его длинного и не по фигуре вместительного халата развевались, как библейское одеяние под знойным ветром пустыни. Он приветливо улыбнулся, увидев меня.