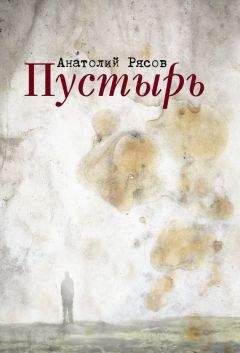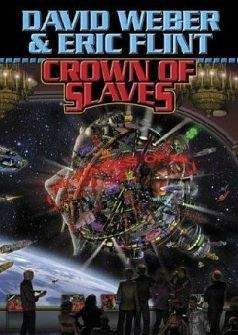— Ладно. Делай газету.
— А мы уже почти закончили. Написали про залп "Авроры", что надо хорошо учиться, как велел Ленин. Еще карикатуру на империалистов наклеили из "Крокодила".
— О дружбе народов тоже можно написать, — сказал Миша. — Год — юбилейный, в декабре будут отмечать 50 лет добровольного союза народов СССР.
— Папа, ты знаешь, что такое дружба советских народов?
— Да. Это, когда у нас все народы — братья, никто никого не оскорбляет, все народы имеют свои газеты, школы и театры…
— Ой, отстань! Что ты меня агитируешь? Дружба советских народов — это анекдот такой. Один спрашивает: что такое великая дружба советских народов? Второй отвечает: это, когда грузины, азербайджанцы, русские и татары все дружно идут бить армян. Мне одна девочка рассказывала из Баку, у них очень армян не любят.
Тарелки она за собой не мыла. Хана не приучила ее к таким мелочам.
Миша разогрел воду в тазу, насыпал стирального порошка; тарелок было много, еще с вечера.
— Трудишься?
Гаврюха, в зеленой офицерской рубашке, при черном галстуке и синих брюках (все куплено в военторге по дешевке) куда-то собрался, так как был при всех своих четырех медалях.
Он прошлепал в ванную, открыл кран, намочил голову, долго причесывался перед зеркальцем на стене кухни.
— Куда это такой красивый?
— А надо. Может мне угля дадут. Вот взяли и запретили давать уголь в дома без разрешения домоуправа. А у меня печка, знаешь, на три комнаты, дровами не напасешься.
— А ты бы брикетом топил.
— Дорого. Тонна — 15 рублей, а еще привозка.
— А за уголь заплатишь 8,50, но будешь сутки таскать, как негр, в подвал. А тебе тяжести таскать запрещено.
— Ничего, молодые есть. Перетаскают.
— Твое дело. Только не понимаю я тебя, больной весь, битый, живешь в дыре, что ты себе кооперативную квартиру не купишь? У тебя деньги есть, не говори: на заводе зарплата шла и за контузию. Неужели не отложил ни копейки? Сам же мне рассказывал, что хочешь в Киеве домишко купить. Не даром же?
— То — передумали. Варвара тоди была малая, а теперь никак не выходит. Кооперативная — дорого.
— Гнить в государственной лучше?
— А почему я должен покупать, платить 50000, а потом возьмут и объявят национализацию? Что у нас огороды не отнимали? Люди сеяли, сажали, клубнику развели, а пришли и сказали: "Отрезать до 600 квадратных метров", и отрезали. А мало домов построили на субсидию от государства же, а потом отобрали? Не-е, мы подождем. Пусть государство мне даст, бесплатно. Я в партии с 1945 года!
— Слушай, — сказал Миша, — как это ты в партии с 1945, если на фронте был с 1942? Что тебя не агитировали?
— Нельзя было. У меня дело получилось. Я в сорок втором офицером был, средний командир, два кубаря.
— Лейтенант?
— Не, интендант третьего ранга. Тогда была такая штука. Ну, послали меня в гидрометслужбу, к самолетам, погоду определять. А наступление было на Харьков. Немцы нам как дали, всю авиацию прифронтовую побили. Вышел приказ всех, кто здоровый, сформировать и — в распоряжение штаба дивизии. Меня там к лошади определили, связным с полком. Я говорю: "Не знаю лошадей! Начисто не знаю!" А у нас, знаешь же, как: "Родину любишь? Выполняй". Ну поскакал я ночью в полк с приказом. Темно, луны нет, дождь, дороги тоже нет: всю танками разворотило, все в поле съезжают, и я съехал. А там пшеница, а потом кукуруза, аж до плеч. Ничего не видно. Скакал по звукам, в ту сторону, где стреляли. А потом ничего не стало: ни людей, ни стрельбы. Слышу, кто-то разговаривает. Прислушался — немцы. Я с лошади соскочил, под узды ее и назад. А они — тррр — из автоматов и подбили лошадь. Упала она, бьется, мне ногу прижала. Еле выбрался. Хорошо, что темно. Ушел. Я ходом, ходом, в общем, утром на шоссе выбрался, сел в машину, еду в дивизию. А на мостике НКВД. Снимает всех, кто на восток — предатели! Одного капитана тут прямо и расстреляли, ни за что, ни про что. Я уже приказ выбросил, в грязь затоптал, еще скажут немцам вез! Ну меня спрашивают: кто такой? Говорю: связной, называю дивизию. Был, мол, в полку, сейчас в штаб возвращаюсь. А они мне: "Нет такого полка!" Я говорю: "При мне пропуск есть с номером полка!" А они свое: "Нет и нет!" Посадили в машину, отвезли в тыл, в тюрьму, потому судили — штрафной батальон. В сорок четвертом только вышел, когда блокаду с Ленинграда снимали.
— Может тебе еще повезло. Под Харьковом в 1942 году жутко людей погибло.
— Это точно. Целая армия полегла. Что ты, голыми руками против танков! У немцев танки, а наши с бутылками на танки! Кто русского солдата жалел?
— Да, было… Так надумал ты? Что ты меня не знаешь? Сколько лет вместе жили! Брат мой тут остается, Нухим. Это же выгодное дело, ты сообрази! Ты мою шубу видел? Что мне прислали? Шуба стоит по израильским деньгам не больше ста лир, а тут за нее дают 120 рублей! Ты представляешь, сколько вещей можно прислать за тысячу? Я же с тобой договариваюсь рубль — лира. Я не уплачу, Нухима разденешь.
— Лена не хочет. На что нам вещи? Старые мы.
— Ерунда! Твоя же Лена по всей Риге за парой сапожек бегала, а Варвара? Она же вся в импортном ходит, а все куплено по блату в тридорога!
— У молодых своя жизнь.
Миша махнул рукой. Не надо было говорить с Гаврюхой на эту тему. Он с самого начала знал, Матрена не допустит, чтобы деньги ушли из дому. Гаврюха может быть и одолжил бы; Матрене такая мысль должна была показаться дикой, как инквизиторам предположение, что земля вертится. Как? Дать кому-то рубль и не иметь все сто процентов уверенности, что в случае чего должнику можно выцарапать глаза? Подумать, что человек просто по-честному способен вернуть долг — это было выше Матрениных способностей.
— Твое дело! — сказал Миша. — А жаль. Меня бы выручил, себе бы хорошо сделал. Я знал одного журналиста, он уехал, а деньги ему одолжил русский, официант. Сейчас уже рассчитались. Мне один латыш 500 рублей дает, просто так, на честное слово.
— Лена сопротивляется.
— Сумасшедшая страна! — подумал Миша. — Чудовищная страна. Я, бывший комсомольский активист подполья, прошу взаймы у коммуниста с тридцатилетним стажем, чтобы уехать в Израиль. И никто не бежит к докторам проверить, кто из нас псих. Уезжают журналисты, писавшие фельетоны о капиталистах. Уезжают учителя, учившие детей, что СССР — самая прогрессивная страна. Уезжают люди, годами говорившие одно, но думавшие другое/ Нищие просят взаймы тысячи, чтобы уехать, и им дают, а в Москве Брежнев произносит речи о светлом будущем и благосостоянии, и они всерьез готовятся завоевать весь мир. Неужели приезжие с Запада не видят лозунгов, вывешенных над всеми улицами, неужели не читают "Правду" и "Известия"? "Коммунизм — светлое будущее всего человечества!" Это ведь тот же лозунг о мировой революции, только приспособленный к сегодняшнему дню. Или Запад смеется над ними и их бреднями, как смеялся над сиамскими правителями, которые величали себя "Царь всех Царей, Властитель Мира, гор и прочее и прочее?!" Господи, во второй половине века ракет и ядерной энергии руководители огромнейшего государства со всеобщим средним образованием говорят с трибуны своего парламента слова, вроде "Дружба навеки!", "Будущее всего человечества"… "Несокрушимый блок социалистического содружества", как будто не было Гитлера, который строил тысячелетний Рейх, не было восточных деспотов, которые величали себя непобедимыми и бессмертными? Что у них совсем нет чувства юмора?
Он представил себе Брежнева, Косыгина, Суслова, Пельше, их старческие голоса, их лица, точно окаменевшие за чтением шпаргалок, их плохо пригнанные челюсти, тусклые глаза и не мог не содрогнуться. Это были ископаемые; люди, отштампованные в эпоху Сталина; они производили впечатление автоматов, настроенных на программу, которая не предусматривала изменений, и они, как паровоз, пущенный по рельсам, либо приедут к цели, сминая все на пути, либо свалятся под откос, увлекая миллионы жертв.
Но еще страшнее были те, помоложе, кого Миша знал лично. Старики верили, очевидно, в пролетарский интернационализм и в победу коммунизма, они были воспитаны Сталиным собственноручно. Но молодые знали, что почем, они одевались в японские кофточки и парижские шубы, сходу обзаводились автомобилями и квартирами с розовыми ваннами. Эти шли к власти ради денег и удовольствий, и эти будут убивать без колебания, не веря ни во что, кроме собственного я, требующего сладкой жизни. Всякое инакомыслие значило для них покушение на личную собственность, а человек, когда замахиваются на его добро, способен озвереть.
— Как же я пошел за ними, как очутился среди них в 1934? — спросил себя Миша. Он давно уходил от ответа, откладывал исповедь, увертывался, говоря: "То было по молодости, по неведению; потому был я с ними, что в Латвии Ульманиса евреев не любили, а коммунизм представлялся краем всеобщего равенства всех народов". Сегодня Миша не хотел увиливать от разговора со своей совестью.