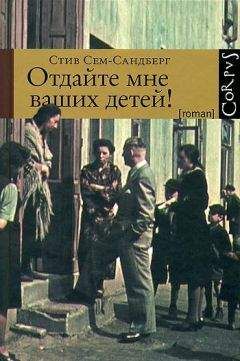Обед, еще вчера приготовленный ею детям, был съеден, а посуду Влодек, вероятно, вымыл — ни на плите, ни на столе она не нашла ничего грязного. Это несколько ободрило ее.
— Вкусный был обед, Тереска? — спросила она.
— Вкусный, — ответила малышка очень серьезно и засеменила за матерью в комнату.
Пани Карская сняла шляпу. Было только около семи. До комендантского часа оставался еще целый час. «Нельзя постоянно тревожиться», — подумала она, сжимая ладонями виски. И хотела уже снять пальто, когда на столике возле кушетки заметила листок бумаги. Сердце ее забилось сильнее. Она сразу узнала старательный, совсем еще школьный почерк Влодека. «Мамочка, — только всего и написал он, — я не мог иначе».
Она несколько раз перечитала эту короткую фразу. Первым ее порывом было выбежать из дома, искать Влодека. Однако ноги у нее подогнулись. Пришлось сесть, чтобы не упасть. Она снова принялась перечитывать записку: «Мамочка…» Она уже ни о чем не думала, в душе была пустота. И тут словно бы очень издалека до ее слуха донесся шепот Терески. Она машинально подняла голову.
В комнате было сумеречно. Тереска стояла тут же, рядом, смуглыми ручонками прижимая куклу к сердцу.
— Мамочка! — Невидящий взгляд матери напугал малышку.
— Что, родная? — шепнула пани Карская.
Тереска склонила головку. Стала разглаживать пальчиками пестрое платьице куклы.
— Мамочка, — начала она так тихо, как только могла. — Ты меня так же любишь, как Влодека? Скажи: так же?
Судорога в горле не позволила пани Карской ответить сразу. И лишь немного погодя она сумела прошептать:
— Ну конечно, родная, конечно, так же…
Малецкий сразу заметил, что у Анны покрасневшие глаза.
— Что случилось? — встревожился он. — Ты плакала?
Она притворилась удивленной.
— Да нет, что ты? Откуда ты это взял?
— В самом деле? — недоверчиво спросил он.
Она рассмеялась. Ян так привык к ее искренности, что легко дал себя убедить.
— Знаешь, я встретил Юлека на дороге, — заговорил он успокоенный. — Опять понесло его куда-то! Впрочем, это к лучшему, что он не будет ночевать у нас. Вчерашняя ночь была не из приятных… А что Ирена?
Прежде чем она успела ответить, его поразило отчужденное выражение ее лица.
— Что с тобой? — Он испытующе взглянул на нее.
Анна смутилась.
— Ничего! — ответила она не совсем уверенно.
— Но я же вижу.
— Со мной в самом деле ничего, — тверже повторила она.
Теперь Малецкий не сомневался, что она говорит неправду. Самолюбие не позволило ему выпытывать дальше. И потому он почувствовал себя особенно уязвленным.
— Можешь не говорить, если не хочешь, — неприязненно взглянул он на жену. — Но не убеждай меня хотя бы, что с тобой ничего не происходит. У меня же есть глаза, я вижу!
Она только покраснела и без слов вышла из комнаты. Он хотел побежать за нею, но в последнюю минуту воздержался. Внезапный уход Анны был настолько не в ее характере, что изумление заглушило в нем порыв гнева. Он стоял в нерешительности, а припомнив, насколько иным виделось ему в течение дня возвращение домой, почувствовал себя очень несчастным и несправедливо обиженным. Сам он редко выказывал свои истинные чувства, но считал при этом, что меж близкими людьми, несмотря ни на что, все всегда должно быть ясно и понятно.
Во время позднего вечернего обеда разговор за столом явно не клеился. Каждый поглощен был собственными мыслями, никому из троих не удавалось преодолеть свою обособленность. На счастье, обед длился недолго, и едва он кончился, Ирена ушла в мастерскую, ей захотелось лечь пораньше…
Анна, пользуясь тем, что вечером хорошо горит газ, решила устроить постирушку, а Ян сошел вниз, подышать свежим воздухом.
Перед домом еще прыгал Стефчик Осипович, но тут его позвал отец с третьего этажа, и мальчишка вскачь, на манер кенгуру, помчался наверх. В соседнем садике седой старик как раз кончил поливать грядки и медленно, ссутулившись, шел с зеленой лейкой домой. Сегодня он был без внука.
В этот момент из открытого на первом этаже окна долетел до Малецкого низкий, ленивый голос Пётровского:
— Что это за бабенка живет у Малецких?
— Жидовка! — послышался из глубины полный презрения голос Пётровской.
— А ты откуда знаешь?
— Откуда? И одного взгляда достаточно. А ты где ее видел? Не шлялась бы она хотя бы…
— Она вовсе и не шлялась нигде, — ответил он небрежно. — На балкон только вышла. Бабенка что надо!
— Но жидовка ведь!
— Ну и что? — засмеялся Пётровский. — Ты думаешь у евреек нет того, что требуется?
— Свинья!
Он еще громче рассмеялся.
— Но у тебя тоже есть, что требуется… в лучшем виде, не огорчайся!
— Свинья! — повторила Пётровская, но уже явно смягчившись. — Я сама знаю, что у меня в лучшем виде, можешь мне не говорить.
Чуть погодя из глубины квартиры донесся ее приглушенный гортанный смех.
Малецкий потерял всякую охоту оставаться во дворе. Он хотел было вернуться, когда услышал, что кто-то спускается вниз.
В подъезде показался хозяин дома пан Замойский.
Это был пожилой уже, одинокий вдовец, худой и сутулый, с большим носом, сильно выдающимся на маленьком, кроличьем лице. Хотя Замойский, представляясь, с особой гордостью произносил свою звучную красивую фамилию, он не имел никакого отношения к известному в Польше древнему аристократическому роду. Впрочем, надо признать, что он только в крайне редких случаях подписывался через игрек[3]. Перед войной Замойский был советником в министерстве, к тому же у него была дочь, супруг которой занимал в свое время должность старосты[4]. Замойский всегда называл дочь не иначе как «старостиха»[5]. Теперь эта «старостиха» пребывала вместе с мужем в Канаде. У бывшего советника была прекрасно обставленная квартира, и, хотя он постоянно жаловался на материальные трудности, жил он в комфорте и достатке. Из всех жителей дома он один мог позволить себе держать прислугу. Слугу его звали Владек.
Увидев у лестницы Малецкого, Замойский, как всегда, с изысканной учтивостью приветствовал его и остановился рядом.
— Дивный вечер! — Он втянул воздух своим длинным носом.
Малецкий что-то буркнул в подтверждение. Ему вовсе не улыбалась перспектива беседы с Замойским, однако же он понимал, что уйти сразу неудобно, надо выждать хотя бы несколько минут.
— Я уж и не припомню, когда сирень так рано зацветала, как в этом году, — продолжал Замойский, тщательно выговаривая каждое слово, поскольку придавал большое значение безукоризненному произношению.
В богатой его библиотеке были собраны все польские словари — от знаменитого шеститомника Линде до последнего издания правил грамматики.
— Да, в самом деле, — согласился Малецкий бесцветным, равнодушным тоном.
Но Замойский вовсе не заметил этого.
— Что за воздух! — Он вдохнул с вожделением. — Вы чувствуете?
— Сирень, — лаконично подтвердил Малецкий.
— Но как пахнет! Что за запах! Совершенно как в мае, в майскую ночь!
И, словно горя желанием причаститься очарованию ночи, он встал на цыпочки, и кроличье лицо его изобразило необычайный восторг.
Малецкий стал прощаться.
— Что, вы уже уходите? — искренне огорчился Замойский. — Жаль дома сидеть в такую пору…
— Увы, работа ждет, — оправдался Малецкий.
Он лег в постель, не дожидаясь, пока Анна кончит стирку. Пытался Читать, но через несколько минут отложил книгу. Света, однако, не гасил. Лежал, положив руки под голову и уставившись в потолок.
Скоро пришла Анна. Выглядела она очень утомленной.
— Знаешь, — сказал он вдруг, — хорошо было бы объяснить Ирене, что ей нельзя показываться на балконе. Зачем это делать? Скоро весь дом узнает, кого мы у себя держим. Благодарю за такую рекламу!
Анна остановилась посреди комнаты.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось! — рассердился он. — Но первые комментарии уже имеются.
— Пётровская? — догадалась Анна. — Но ведь она еще вчера видела Ирену.
— А сегодня, разнообразия ради, ее видел Пётровский! Ничего лучшего не придумала, понесло ее на балкон.
Сейчас только он заметил, какой у него неприятный, раздраженный тон.
— Может, ты скажешь ей это? — спросил он уже спокойней. — Тебе как-то удобнее, чем мне… Ведь в ее же интересах соблюдать осторожность. Я уж не говорю о нас, мы — другое дело…
Он говорил еще какое-то время, но чем более убедительные и очевидные подыскивал аргументы, тем яснее сознавал, что в истории этой ему всего важнее собственное спокойствие и собственная безопасность. К тому же у него не было сомнений, что и Анне это более чем ясно. Однако он чувствовал себя слишком усталым, чтобы вступать в спор с самим собою. Молчание Анны окончательно его подавило.