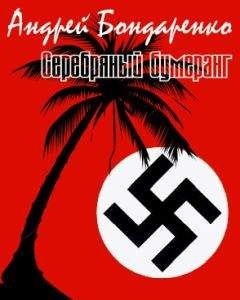И только разбитый вагон продолжает двигаться все дальше и дальше. Совершенно непонятно, как это он без рельсов катится по растрескавшейся, умирающей от жажды равнине. Может, это и есть тот самый вагон, из которого несколько лет назад силой высадили Доктора на красный перрон Сапукая и бросили среди развалин?
1
Целое утро я, обливаясь потом, старался втиснуть ноги в башмаки. В те долгие дни, когда я был свободен как ветер, камни набивали мне мозоли на пятках, колючки в лесу расцарапывали колени в кровь, корневища, плавающие по реке, сдирали кожу, — все снесли мои бедные ноги. Теперь вольные дни подходили к концу (всему на свете приходит конец), и я не знал, радоваться этому или печалиться.
Я надел носки. Снова их снял. Все равно ноги были больше новых башмаков. Собственно, «новых» только для меня, потому что купили их на распродаже подержанных вещей, но они были первыми башмаками в моей жизни и противились мне так, словно их сшили из кожи норовистого буланого скакуна. Я выбивался из сил, а они по-прежнему капризничали и не поддавались. Нужно было только послушать, как они жалобно скрипели, понюхать, как от них разило танином, посмотреть, как они отвергали мои ноги, которые я трижды мыл на кухне золистой пеной и водой, настоянной на ветках акации. Я тер ноги чуть не до колен. Но ни черный гуаякан, ни жавель не свели покрывавшую их кору. Пятки я даже скреб точильным камнем. Оставалось только обрубить пальцы. Вообще-то, ноги уже стали белее и даже поменьше, но все еще не помещались в башмаках. Тогда пришла Руфина и вымыла их водой с крахмалом, после чего они наконец влезли в ботинки, и те перестали жалобно поскрипывать.
Днем все отправились на станцию. Я шел впереди, высоко поднимая ноги, чтобы больше блестели башмаки, а я меньше думал о горькой разлуке с теми, кто молча шествовал позади меня — с папой, мамой, сестрами, со старым Донато, который нес на плече кожаный чемоданчик, и Руфой, державшей в руке корзинку с продуктами. Она сама зажарила мне курицу.
Работы по восстановлению завода прекратили. Не удавалось раздобыть оборудование, так как мировая война разорила и заморские края, хотя некоторые и говорили, что она кончилась. Стояла гнетущая тишина, и потому окружающие предметы казались больше, а переживания — глубже. Я шел по насыпи и думал, что приятно щеголять в новых ботинках, несмотря ни на что. Беда заключалась лишь в том, что впереди меня ждала столичная школа, куда каждый день нужно будет ходить обутым и причесанным.
— Хочешь поступить в военное училище, — говорил мне папа, — нужно окончить шесть классов. Даже чтобы стать военным, нужно учиться.
У нас в Итапе было только три начальных класса. Собственно, это была та самая деревенская школа, которую выстроил еще Гаспар Мора: небольшой домик с двускатной крышей и резными подпорками.
Мое непоколебимое желание любой ценой стать кадетом очень огорчало маму.
— Оставь его, — ворчливо замечал папа, словно хотел сказать: «Пусть испытает солдатчину на своей шкуре». — Страна — это большая казарма, военным в ней живется лучше, чем остальным.
— Да, но ведь каждые два года революция! — сетовала мама и смотрела на меня так, будто я уже стоял под ружьем.
— В каждой революции погибает больше штатских, чем военных. В конце концов не понравится — бросит. Учился же я в духовной семинарии. Сдуру, конечно, поступил туда, но разве тонзура помешала мне быть хорошим земледельцем? Надо смотреть на вещи здраво. Там видно будет. Пусть поступает как хочет.
Я украдкой прислушивался к их спорам. Но кадетский мундир — голубой с золотыми галунами, форменная фуражка и маленькая шпага затмевали собой все на свете. Чтобы получить их, надо было преодолеть трудный путь: поступить в школу, уехать в незнакомый город по железной дороге, по тем самым путям, которые на моих глазах, шпала за шпалой, прокладывались вдоль деревни. Как раз на открытие этой дороги и прибыли кадеты из военного училища. Они эскортировали президента и его свиту. Поезд был украшен знаменами, венками из пальмовых ветвей. Вытянувшись по команде «смирно» и выпятив грудь колесом, стояли на платформах щеголеватые молодые люди. Им аплодировали больше, чем самому президенту. Та же сцена повторилась по возвращении президента из Вилья-Энкарнасьон.
С тех пор я не мог забыть эти красивые мужественные лица.
Обо всем этом я размышлял, идя по насыпи. А еще я думал о моей соседке по парте, Лагриме Гонсалес, которая была постарше меня. Она колотила в рельс, оповещая о начале и конце урока. А потом на выпускном школьном вечере мы стояли с ней среди деревьев, и пока остальные пели гимн, она меня поцеловала. Я вспомнил вкус ее теплых губ, снова ощутил прикосновение маленьких упругих грудей, и по спине у меня пробежали мурашки; я стал размышлять о предстоящей утрате, горькой и сладостной, как всякая невозратимая утрата чего-то дорогого.
2
На перроне нас уже ждала Дамиана Дáвалос с младенцем на руках. Я увидел ее в толпе, собравшейся к приходу поезда.
Торговки лепешками с полными корзинами прохаживались по перрону. Под тентами сидели на корточках торговцы алохой, курили сигары и предлагали на ломаном испанском языке напиток, стоявший перед ними в кувшинах и жестянках, облепленных мухами.
Сумасшедшая Мария Роса, торговка лепешками с Каровени, тоже бродила здесь, глядя на всех безумными глазами. На голове она держала пустую корзину, тень от которой падала на дочку, примостившуюся у нее на плече.
Близнецы Гойбуру украдкой поглядывали на мои новые башмаки. Они шушукались между собой, пересмеивались и отпускали ядовитые шуточки, которые подхватывали остальные. Я слышал, как эти завзятые насмешники хохотали и свистели мне вслед, но притворялся, что ничего не замечаю, и всем своим щеголеватым видом выражал презрительное равнодушие. Хотя в глубине души я им завидовал. С каким удовольствием я сбросил бы куртку и новые башмаки, нелепо сверкающие на перроне, и вернулся бы к ним. Играл бы в кегли или в мяч, крутил бы волчок или дрался на паперти под зеленым навесом из плюща и других вьющихся растений. А так — кто я? Дезертир. Мне было больно и стыдно сознавать это. Не помогали ни чудесные башмаки, ни новая одежда, ни предстоящая поездка, ни далекая школа, ни будущая слава кадета, которая, вообще-то говоря, была еще за горами.
Тут как раз появилась Лагрима Гонсалес под ручку с сестрой близнецов Эсперанситой Гойбуру. Я горделиво приосанился и, разом забыв о грустных размышлениях, отвернулся от девочек, хотя никогда еще они не казались мне такими хорошенькими. Лагрима была просто красоткой: длиннющие ресницы, смуглое, прелестное лицо. Когда она улыбалась, ее белые зубы сверкали, а на щеках появлялись ямочки. Я сделал несколько шагов, постукивая каблуками так, будто над ними уже блестели шпоры, — словом, прошелся по плитам перрона, точь-в-точь как политический начальник Оруэ.
Из ущелья Эрнандариас вынырнул поезд, медленно поднялся вверх по холму, становясь все больше и больше, и скоро его тень накрыла перрон, станцию, людей. Стоял оглушительный грохот. Паровоз упирался в небо султаном дыма, извергнутого из его железного чрева.
Мы бросились к вагонам второго класса.
— Присматривай за ним хорошенько, Дамиана, — сказала мама.
— Да, сеньора.
Дамиана вошла в вагон и устроилась на одной из скамеек. Бедная Дамиана Давалос! Волнения перед дорогой, болезнь ребенка, усталость и бессонные ночи совсем доконали ее. В сутолоке отец передал ей мой чемоданчик, корзинку с жареной курицей, узелок с бельем и продуктами, который она везла с собой. У нее на коленях лежал укутанный младенец и спокойно поглядывал на окружающую суету. Отец вырвал меня из объятий родственников и подтолкнул к вагону.
— Прощайте, Эдельмира, Кока! — крикнул я своим сестрам, пытаясь проглотить комок, подкативший к горлу, но смотрел я туда, где стояли Лагрима и Эсперансита. Дерзкие девчонки засмеялись.
Вдруг паровозный свисток перекрыл общий шум, в шипении пара утонули все крики и разговоры. Лица и силуэты поплыли назад, сливаясь в темное пятно, которое ранило мою душу. Пых… Пых… Пых… Поезд понемногу набирал скорость.
Ошеломленный, я не отрывал взгляда от окна. Станция убегала вдаль. Все мчалось вдаль, стремительно и беспорядочно. Темное пятно на платформе линяло и уменьшалось. Скоро оно стало не больше выцветшего на солнце серого муравейника.
Мимо окон неслись телеграфные столбы, а чуть поодаль, менее прытко, бежали дома, ранчо, деревья, пасущийся на окраине деревни скот, птичий двор, кладбище. Все они безудержно мчались обратно, к станции, но никак не могли настигнуть друг друга. Потом они круто свернули в сторону, словно земля вертелась вокруг поезда. Позади лесов Тебикуари деревня зарылась в поля.