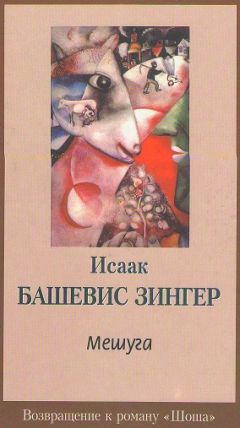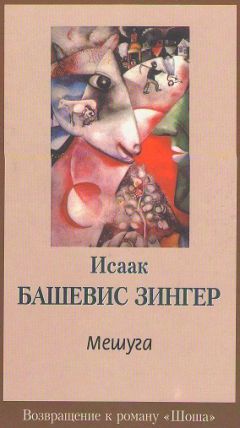— Стенли, могу я кое-что сказать? — спросила Мириам.
— Молчи! Я тебя снова предупреждаю: если скажешь еще слово, будешь иметь неприятности.
— Даю тебе священный зарок больше не разговаривать.
— Ладно, идите, — сказал мне Стенли. — Если прочтете в газетах, что мы оба мертвы, то будете знать почему.
— Не делайте этого. Если она такая, как вы говорите, она не стоит того, чтобы умереть.
— А кто стоит того, чтобы умереть? Прощайте.
Я открыл дверь в коридор, и Мириам что-то сказала мне вслед, но я не расслышал, что именно. В тусклом свете ночной лампы было видно, что дверь на лестницу не заперта. Коридор был пропитан теплотой середины ночи, остатками ночного покоя, застоявшимися запахами мусора, нерассеявшейся газовой копоти, спящих тел. Я начал спускаться вниз с опаской, как полуслепой. Я спас свою жизнь, но оставил Мириам в руках убийцы. И снова я услышал хриплое предупреждение отца: «Ты окончательно возненавидишь это и совершенно отвергнешь это…».
И что-то в моей голове добавило: «Этот мир и тот свет это один и тот же мир».
Я уже спустился на половину марша, когда что-то остановило меня. Что сказала Мириам мне вслед? Попрощалась? Может быть, о чем-то попросила? Она почти выкрикивала слова, но в волнении я не смог восстановить их. Впрочем, что это может изменить? Между нами все кончено. Я чувствовал горечь во рту — в деснах, в горле — в кишечнике, в глазах. Голая лампочка отбрасывала тени на потемневший потолок. Я услышал шаги, и вскоре появился рабочий, тащивший наверх огромный жестяной бачок для мусора и метлу. На какое-то мгновение он уставился на меня, вероятно, раздумывая, надо ли спросить, что я тут делаю. Потом продолжил подъем под аккомпанемент стука бачка и крышки. Если Стенли убьет Мириам и сбежит, этот человек засвидетельствует в полиции, что видел меня на лестнице. Я окажусь под подозрением в причастности к убийству. Что-то во мне расхохоталось. Я стал кучкой мусора, выброшенной ночью и выметенной днем. Я прислонился к стене, чтобы не упасть.
По моим расчетам я уже спустился на первый этаж и сделал попытку открыть дверь в вестибюль, но она была заперта. В ногах не было сил, и мне пришлось сесть. Что я скажу полиции, если меня арестуют? Я дал слово Стенли ничего не рассказывать. Воздух попахивал углем, гнилью, другими резкими подземными запахами. Только теперь я заметил, что стены были из красного кирпича и запачканы сажей. Я спустился слишком глубоко. Надо собраться с силами и подняться. В ушах опять начали вертеться слова Стенли — любовница нееврея, сводника… он отдал ее в бордель… ее клиентами были нацисты, убийцы евреев… Они приносили ей подарки, которые срывали с убитых еврейских девушек…
Я поднялся на один марш, увидел дверь и, толкнув ее, открыл. И оказался в вестибюле. Указатель над лифтом оставался на четырнадцатом этаже, там, где была квартира Мириам. Швейцара нигде не было видно. Я стоял на улице и глубоко дышал, вдыхая холодный утренний воздух, влажный от деревьев и травы в парке. Раннее утреннее солнце, освежившееся купанием в океане, висело в чистом голубом небе. Над парком, пронзительно крича, пролетали стаи птиц. Голуби опустились на окружную дорогу и скамьи парка, прыгали на маленьких красных ножках, клевали невидимые кусочки пищи, ворковали, хлопали крыльями. Только теперь я осознал, что моя слабость связана с голодом. Я вытошнил всю пищу, съеденную за день, в желудке было пусто. На Централ-Парк-Вест не было ресторанов, по улице не ехали ни такси, ни автобусы. Я полез в задний карман брюк и обнаружил, что он пуст. Мне вспомнилось, что деньги и ключи выпали, когда я нес одежду в ванную Мириам. Чековая книжка, лежавшая во внутреннем кармане пиджака, тоже пропала.
Я продолжал идти медленно, потому что не было никаких сил, чтобы торопиться, да и некуда было торопиться. В моей комнате на Семидесятой-стрит я не держал ни еды, ни денег. Аккредитивы были в моем индивидуальном боксе в банке, но ключ от него висел на кольце вместе с другими, потерянными у Мириам. Вечером я должен был идти вместе с Мириам на прием к Хаиму Джоелу Трейбитчеру, чтобы попрощаться с Максом. Однако все это было в далеком прошлом.
Запутавшийся, я бесцельно брел, не представляя, куда несут меня ноги. В конце концов, побежденный усталостью, я упал на мокрую от росы скамью. У меня не было ни денег, ни чековой книжки, ни ключей. Расстроенный рассказом Стенли о Мириам, я поклялся Богом и душами моих родителей, всем, что было мне свято и дорого, что никогда больше не взгляну на ее гадкое безнравственное личико. Я также поклялся больше не видеть Макса Абердама.
Я был слишком усталым, чтобы тащиться на Семидесятую-стрит, разыскивать жену управляющего и просить у нее ключ от моей комнаты. У меня совсем не было денег, даже нескольких монет, чтобы сесть на автобус или позвонить по телефону. Записная книжка также осталась у Мириам, и я не мог вспомнить ни одного номера телефона. Не было даже носового платка, чтобы отереть пот со лба. В желудке посасывало, а во рту стойко держался вкус рвоты. Хотя я потерпел поражение, я не мог не восхититься мудростью Провидения — или как еще называлась сила, которая управляла судьбами людей — в организации моего падения. Как в давние времена с Иовом, все произошло с необыкновенной скоростью, один удар за другим.
Надо было найти место, чтобы отдохнуть, вымыться, побриться. К счастью, мне вспомнилось, что неподалеку живет Стефа Крейтл, ее квартира была не более чем в десяти кварталах отсюда. Во время войны мы потеряли друг друга, и я был уверен, что она погибла. Внезапно в 1947 году она появилась в Нью-Йорке с мужем, Леоном Крейтлом и взрослой дочерью, Франкой, и это тоже было воскрешением из мертвых. Мне было тогда сорок три, ей около пятидесяти, а Леону семьдесят пять, он был совсем старый. Им удалось улететь в Англию всего за несколько дней до того, как Гитлер вторгся в Польшу. Две дочери Леона погибли в лагерях. Конечно, он потерял все свое состояние. Стефа работала в Лондоне горничной в гостинице, а позже медсестрой. Мы перестали переписываться еще перед войной. За эти годы я в Нью-Йорке пережил кризис и впал в меланхолию. Я перестал ходить в редакцию и практически порвал все связи с языком идиш, идишистской литературой, идишистским движением.
Между сорок седьмым годом и началом пятидесятых произошли важные изменения как в моей жизни, так и в жизни Стефы. Леон нашел в Америке друзей и партнера, с помощью которого стал строить на Лонг Айленде дешевые дома, и внезапно снова разбогател. Дочь Стефы, Франка, вышла замуж за нееврея. Еще в детстве, в Данциге, Франка была заражена нацистской ненавистью к евреям, и в Америке она приняла католическую веру своего мужа, инженера. Она порвала все связи с матерью и отчимом.
Моя жизнь тоже переменилась. Я вновь начал писать. Опубликовал роман и сборник рассказов на идише, нашел переводчика и издателя на английском. Я стал постоянным сотрудником газеты на идише, писал очерки, обзоры и различные статьи. Кроме того, я давал советы на идишистском радио. Контакты со Стефой восстановились, но всякий раз, когда я видел ее, у меня возникало таинственное чувство, будто я встречаюсь с привидением, одним из тех, о ком писал рассказы. За годы разлуки между нами выросла стена. Стефа говорила по-английски с лондонским акцентом, а то немногое из идиша, чему она научилась в Варшаве, было забыто. Очевидно, у нее были в Лондоне любовные связи, но она никогда не говорила об этом. Это уже не была та Стефа, которая ссорилась со мной, называла меня «литератник» и поправляла мой польский. Эта Стефа была хорошо воспитанной леди, бабушкой маленького ребенка. Ее коленки больше не торчали, они были округлыми, грудь стала выше, а бедра полнее. Только ее отношение к Леону осталось тем же, и она ворчала, что никогда не понимала, что он из себя представляет. Иногда она добавляла: «Весь мужской пол для меня загадка».
Впрочем, Леон едва ли изменился. Он был совершенно лысым, лицо его было таким костистым, а кожа так туго натянута, что у него не было морщин, и весил он не более сотни фунтов. В восемьдесят лет Леон все еще занимался бизнесом, строил дома, покупал участки земли, спекулировал акциями и ценными бумагами. У них была квартира в небоскребе на углу Централ-Парк-Вест и Семьдесят второй-стрит. Леон уже не раз попрекал меня за то, что я у них редко бываю. В Америке он начал читать газету на идише, возможно, потому, что так и не смог полностью освоить английский. И воспылал на удивление сильным интересом к моим произведениям. Он не переставал задавать вопросы: неужели все, о чем я пишу, происходило в жизни? Не придумываю ли я все это сам? Как это возможно придумать обстоятельства, которые кажутся такими реальными? И когда я придумываю — по ночам, днем, во сне, просыпаясь? Леон уверял меня, что в Варшаве встречал характеры и типы в точности такие, какие описаны у меня — я только изменил имена, говорил он, подмигивая и улыбаясь. В другой раз он посетовал: