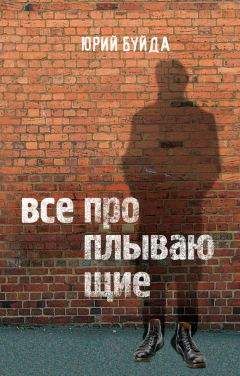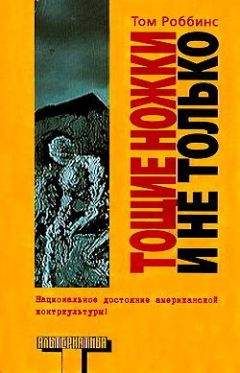– Новый поставят, – робко предположил затесавшийся в компанию некий незнакомец, чье имя избытком согласных напоминало обглоданный костяк хищной рыбы.
– Новый! – хмыкнул дед Муханов. – Да любой другой памятник, будь он хоть из золота, в сравнении с этим – пластилиновый.
– А мы будем пластилиновым народом, – подлил масла в огонь Аркаша Стратонов, громко скрипнув жестяной подкладкой своих штанов.
Мы и не заметили, как к нам осторожненько присоединился плюгавый в своем пиджачишке и лимонно-желтых штанах. Поначалу он все кивал да поддакивал, а затем, лицемерно проливая слезы и подло пряча рога под гадкой шляпчонкой, проблекотал:
– А надо Его похоронить. На городском кладбище. Как человека. Кто осмелится могилку порушить?
И пока мы, несколько ошеломленные этим предложением, молчали, он свистнул Валюхе насчет каждому по триста и по конфетке «Ласточка». Мысль показалась нам заслуживающей внимания. В самом деле, приказ есть приказ, памятник свалят и переплавят. Спрятать его невозможно, ибо в нашем городке тайну сохранить еще никому не удавалось, да и зачем? Памятник перестает быть памятником, если его убрать с центральной площади. А вот если похоронить…
Из Белой столовой мы перебрались в Красную, где плюгавый заказал всем еще по сто пятьдесят и по конфетке «Буревестник». Оказавшийся тут Вита Маленькая Головка, городской сумасшедший и опытный кладбищенский землекоп, согласился выкопать могилу быстро и за умеренную цену. Косоглазый с улыбочкой тотчас и выдал требуемую сумму. Вот тут бы нам спохватиться да поинтересоваться, что означает его улыбочка и с чего бы это ему вздумалось швыряться деньгами, – но черт, словно упреждая вопросы, вновь заказал всем водки и по конфетке «Белочка». Явился Колька Урблюд с гармошкой, подсели к нашему столу Феня с сестренкой Лидочкой, весьма интересной девушкой, весившей ровно восемь пудов – без ботинок и лифчика… Спустя еще раз по триста и по конфетке «Чародейка» мы вдруг обнаружили себя у подножия памятника Генералиссимусу. Кальсоныч ходил между нами с клочком бумаги и пальцем, обмакнутым в кровавое вино, составлял список присутствующих. Когда незнакомый бородач с ослепительно-белыми зубами невозмутимо сообщил, что его зовут Малютой Скуратовым-Бельским, а его товарища – Ванькой Каином, председатель со вздохом убрал палец в нагрудный карман и велел послать пожарную машину за водкой.
Тем временем народ развеселился. Круглая Дуня лихо отплясывала с Колькой Урблюдом, а восьмипудовая девушка Лидочка – с незнакомцем, чье имя избытком согласных напоминало обглоданный костяк хищной рыбы. Лесхозовский бухгалтер Глаз Петрович, уставившись стеклянным глазом на черноокую красотку, галантно приглашал ее пройтись в близрасположенные кустики для продолжения знакомства. Привлеченная общим весельем, из ателье над парикмахерской явилась Наташа, гипсовый манекен весьма интересной наружности, – и по такому случаю ей просверлили соответствующее отверстие и, за неимением собственных, подвязали шелковыми ленточками прекрасные гипсовые ноги, позаимствованные в магазине «Обувь».
Женщины упрямо пытались влезть на постамент, чтобы поднести Генералиссимусу отвальную, но он не соглашался. Сдался он только после того, как за дело взялась черноокая красотка, которой наскучил одноглазый кавалер, клятвенно заверявший ее, что в головку его члена для усиления эффекта вживлены три волчьих картечины и что любая женщина, хоть раз отведавшая это чудо, уже никогда его не забудет. Генералиссимус заметил, что гораздо эффективнее точно подобранное металлическое кольцо, а то и два, упрятанные под крайнюю плоть. Красотка взялась рассудить их спор. Через полчаса, выбравшись из кустов, Генералиссимус, без бронзовой фуражки и в разорванной на спине шинели, вдруг попросил собравшихся не церемониться и называть его Иосифом или даже просто – Джо. Ему налили штрафную и усадили верхом на кентавра. Кости у бывшего Гандончика хрустнули. Прилетевший на дирижабле большой эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Аркадия Райкина прочувствованно грянул «Чижика-пыжика». Оглушительно бухнул Аркаша в свои жестяные штаны – и мы пустились в путь по улочкам засыпающего городка, предводительствуемые кривляющимся и пританцовывающим чертом. За ним медленно ехала пожарная машина, поливавшая нас время от времени водкой из брандспойта.
Бедный кентавр едва передвигал ноги. Вдобавок к Генералиссимусу на его хребте расположилась черноокая красавица неведомой, но свирепой породы, издали похожая на рыбу. Не обращая внимания на облепивших его мух, Генералиссимус щекотал бронзовыми усами красоткину шею и прерывающимся от страсти голосом звал ее с собой в Париж, где у него была прибыльная фабричка, выпускавшая высококачественную колючую проволоку. За ними плелся задумчивый Глаз Петрович. Он никак не мог вспомнить и понять, что же с ним произошло и куда подевался его стеклянный глаз: то ли он сам его впопыхах проглотил, то ли красотка слямзила.
С веселыми песнями и громкими криками миновали мы мост через Преголю и тут, на перекрестке, единодушно решили непременно свернуть налево, к кладбищу, после чего незамедлительно свернули направо, за детдом, откуда начиналась дорога к болотам.
Внезапно изнывающий под тяжестью седоков кентавр почувствовал, как переломившийся пополам хребет ударил в низ брюха и из пробоины в дорожную грязь хлынули, как змеи из мешка, влажные сизые кишки. Кентавр упал.
– Ничего, сынок, – сказал Генералиссимус. – Дальше будет веселее.
– Шея станет тоньше, но зато длиннее, – подхватила черноокая.
Кентавра оттащили в сторонку и оставили под присмотром Круглой Дуни.
Мы же продолжали путь, следуя за сверкавшим при луне Генералиссимусом. В обнимку с черноокой красоткой он уверенно шагал по топкому лугу. Мы увязали в грязи, но черт то и дело подбадривал нас водкой из брандспойта. Генералиссимус ушел далеко вперед – и вдруг пропал в тумане. Когда мы приблизились к тому месту, над его бронзовой макушкой сомкнулась болотная ряска…
Первым пришел в себя Кальсоныч.
– Ну, Сусанин! – прошипел он, засучивая рукава. – Ну, сукин кот!..
Плюгавый подпрыгнул и прегадко рассмеялся:
– Не по-русски это, Кальсоныч! Где это ты видел кота, матерью которого была бы сука? – Вокруг него закрутился пахнущий шафраном туманный вихрь. – Не по-русски!
Мы уже всё поняли. Все, все мы поняли и потому, дрожа от холода и пробирающего до костей похмелья, лишь молча наблюдали за уносящимся в пестро размалеванном автомобильчике чертом, издевательски мяукающим и обнимающим одной рукой красотку со стеклянным глазом, у которой вместо губ была плотно сжатая кольцевая мышца – навроде той, что запирает заднепроходное отверстие у людей и животных. Пахнущий шафраном вихрь унесся, словно и не было его, и только откуда-то из туманной выси долго еще доносилось до нас ядовитое хихиканье этого сукиного кота черта…
Не выдержав мушиного гудения и приближающегося утра, Круглая Дуня собрала в ржавую кастрюлю все, что осталось от кентавра, и закопала на городском кладбище в могиле, предназначенной для Генералиссимуса. И долго искала Дуня подходящие слова, чтобы проститься с покойным, душа которого устремилась в те края, где нет ни мух, ни черных кобелей неведомой, но свирепой породы, издали похожих на рыб, – но так и не нашла ничего лучше, как приветствовать восходящее солнце фразой:
– Прощай, Гандончик!
Прощай, Гандончик, прощай!..
Сожженные перекисью прямые волосы до плеч, три лезвийных прорези на белом лице – глаза и рот, черная кожаная куртка, глухо запахнутая на плоской грудке, и черные кожаные штаны на прямых, как палки, ногах – именно такой и запомнилась всем Красавица Му: черно-белое узкое тело верхом на огнедышащем звероподобном мотоцикле «БМВ», подаренном ей дядюшкой в день рождения. Вечерами она выводила мотоцикл из гаража, прыгала в седло – и ревущая машина, приседая на заднее колесо и вздымая клубы красной пыли, с грохотом уносилась в центр городка, на площадь, куда уже стягивались юные обладатели «Яв» и «Ковровцев», чтобы допоздна шумной стаей носиться по темным улицам, доводя до осатанения собак и их хозяев. Но чаще Красавица Му разъезжала на мотоцикле одна по окрестностям и проселочным дорогам, решительно пресекая попытки моторизованных ухажеров набиться в компанию. Для самых упрямых у нее на широком кожаном поясе висела старая галоша, которой она безжалостно лупила нахалов по органу дерзости.
Мужчин она боялась и ненавидела с раннего детства. Их взгляды вызывали у нее рвоту, а прикосновения – ожоги, которые ее матушка, сумасшедшая по прозвищу Мадам Лю-Лю (мальчишки кричали ей вслед: «Мадам Лю-Лю, я вас люблю, однажды вечером убью!»), лечила свежей сметаной и яичным белком. Единственное существо мужского пола, встречавшееся в их доме без содрогания, был дядюшка Брутто-Нетто. Родство этого забубенного пьяницы и бабника с Мадам Лю-Лю было весьма проблематичным, но только он один во всем городке хоть как-то поддерживал эту ненормальную бабу, круглый год носившую сделанную из старого тюля шляпку, похожую на сломанного бумажного змея, и выкрашенные желтой масляной краской мужские ботинки. Работала она в детском саду на кухне, и все ребятишки в городке знали наизусть песенку-молитву, которой она напутствовала их на сон грядущий: