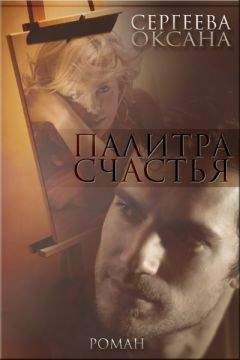Пританцовывая, смеясь, Серый исчез из жизни Димки. И вот — выскочил под вокзальные своды, как на сцену, все так же притоптывая и вихляясь.
— С меня причитается, Димок! — кричит Серый в ухо Димке. — Пойдем, я тут знаю место. Посидим. Помозгуем, как жить.
Димка соглашается охотно. Ни толкаться в очереди в камеру хранения битых часа два, ни бродить в толпе ему, конечно, не хочется. Шлепая по мокрому снегу, они бредут по площади, и Серый без конца подпрыгивает, взмахивая ногами.
— Гляди, какие прохоря. — В прыжке он похлопывает себя по сапогам. — Шевровые. Мягкие — ноги как в пеленках. Тепло…
Все вокруг радует Серого. Он похож на щенка. Правда, диковатого, приблудного, с непонятным норовом. Но с ним легко.
Они заходят в немыслимо узкую и длинную дощатую «щель», постепенно сходящуюся к буфету так, что только один человек и может протиснуться. Как там помещается хозяйка, как ее не заклинило — загадка. Вдоль стен — узкие стойки с фаянсовыми горчичницами. Серый ныряет в глубину «щели», в самую ее узость, и там о чем-то быстро шепчется с хозяйкой, достает из кармана что-то, завернутое в тряпицы, сует под прилавок, весь при этом смеется, дергается, словно под не слышную никому музыку. Стремительно скользя, Серый возвращается.
— Что хочешь, Студент? Все для тебя. Отдаю должок. Ты меня выручил. Серый не забывает… Тебя как звать, забыл?
— Дмитрий.
Через минуту тягучая желтоватая жидкость, изобретенная католическими монахами бенедиктинского ордена и воссозданная наскоро московскими ликеро-водочными алхимиками, вновь делает мир теплым, уютным и дружелюбным. Чайной алюминиевой ложкой Серый намазывает на черные горбушки икру. Дрожит на тарелочке желе с листочками сельдерея и мелко рубленным мясом. Серый достает из кармана коробку «Казбека». Димка не курит, но общий дымок роднит. Димка не выдерживает и рассказывает Серому о своей жизни у Евгения Георгиевича, солиднейшего и скучнейшего человека, которого в юности — от отчима знает — звали Женькой-догонялой. Рассказывает о великолепных саксонских тарелочках, висящих на стенах, трофейной мебели, вывезенной из какого-то поместья, о фарфоровых пастушках, швейных машинах «Зингер», ножных и ручных, картинах в золотом багете и прочих диковинах. Серый оказывается прекрасным слушателем, он разинул рот и время от времени бьет Димку по плечу: «Иди ты! Ишь как жировал, Студент!» Димка входит в раж, рассказ его становится стремительным — тормоза отпущены. Краснея и волнуясь от вдохновенной лжи, Димка шепчет в ухо Серому скороговоркой:
— А выгнали меня из-за дочки. Ну, красивая, словом. А я что — бедный студент. Застукали нас.
— Ну, даешь! — Серый делает большие глаза, спрашивает в восторге: — Так ты, значит, с хозяйской дочкой?
Димка пожимает плечами, вздыхает — мол, что уж там говорить. Было дело, но об этом порядочные мужики не распространяются. Об этом молчок.
— Ну, Студент, молотком! Молотком… А с виду такой тихий, в очках. Ну, поздравляю, давай.
И он подливает студенту бенедиктин из своего стакана. Хрустит, торопясь, стебельком сельдерея. Чуть ли не чечетку отбивает от радости за товарища.
— Ты настоящий! — говорит он. — Не салага какая. Давай!
Они выпивают залпом. Бенедиктин вкатывается внутрь хилого Димкиного существа, как пушечное ядро, и там взрывается, и тягучие горячие осколки проникают всюду. Ноги становятся ватными, но в голове по-прежнему, даже еще быстрее и рельефнее, мелькают фантастические картинки. Наташа, но не полная и ленивая, а изящная, большеглазая, похожая на Роз-Мари из фильма, настоящий цветок душистых прерий, бросается к нему, заключает в объятия — о чудесные, мягкие, волнующие руки с ямочками на локтях! — «не уходи, не отдам!». И Евгений Георгиевич, который снял со стены драгоценную инкрустированную трофейную трехстволку — «Зауэр, три кольца», с нарезным третьим, наставляет на Димку страшное оружие: «Вон из моего дома!» И у стены разобранная постель, немецкое пуховое, сверкающее алым атласом одеяло на паркетном полу, мятая простыня, подушки по углам… А что там до этого было, что было: сцена бушующей страсти. Глаза у Димки блестят. Но могло ведь быть и по-другому. Та же разобранная постель, атласно-пуховое одеяло на полу, и Евгений Георгиевич с трехстволкой: «Женись! Немедленно женись! Такого позора я как отец не перенесу!» — «Нет! — твердо отвечает Димка. — Мне еще учиться надо!» — «Женись! Вот приданое!» — И Евгений Георгиевич начинает, отламывая витые медные ручки, выбрасывать ящики трофейного секретера. Сыплются на землю бриллиантовые кольца, серьги, браслеты, швейцарские часы, свезенные проклятыми фашистами со всей Европы и увезенные расторопным железнодорожным специалистом, победившим зверя в его логове.
— Жениться предлагали, — говорит Димка, сдерживая себя, стараясь придать голосу выражение обыденности и скуки — не впервой такое бывает с опытным сердцеедом. — Все отдавали, но я отказался. Воля дороже.
— Молодец! — вопит Серый. — А чего предлагали?
— Там у них запрятано… Он откуда-то навез, понимаешь. Ну, золота там всякого, камней. В тряпочках замотано… килограммы!
— Ну! А не врешь?
— Во! — Димка делает жест, который, как он полагает, означает высшую блатную присягу: ногтем большого пальца поддевает зубы, щелкает и, цыркнув слюной в сторону, проводит пальцем, словно бы ножом, по шее.
Он и в самом деле не врет. Видел однажды, как Евгений Георгиевич и его жена, специалистка по цветным и редким металлам, перебирали содержимое секретера. Это было в один из первых дней после приезда Димки. Он проснулся среди ночи и, удивленный светом, бьющим в щель, прильнул к двери и увидел блеск сокровищ. Обеспокоенные появлением жильца, хозяева переносили свои главные богатства из доступного секретера в полое, потайное, днище шкафа. Но Димка через несколько дней и думать забыл об увиденном. В юности каждый день — золото, и драгоценности, тем более чужие, не могут долго занимать воображение.
— Да врешь! — говорит Сергей. — Это уж врешь.
— Да во! — Димка повторяет жест. — Всего полно. Прячут в таком месте, что никто и не догадается. Да я бы и так взял, если бы хотел. Они бы и не узнали. Там всего полно. Но я до этого никогда не опущусь. В бедности буду жить. Но честно.
— Ну, ты великан! — Серый отходит немного в сторону, как будто желая заново рассмотреть студента. — Ты настоящий мальчонка. Таких теперь мало. Такие сами на вес золота.
Обхватив друг друга за плечи, икая парами ядовитого бенедиктина, они выходят из «щели» и пересекают вокзальную площадь, заполненную людьми, трамваями, машинами и конными повозками. В желтом свете уличных фонарей несутся снежные хлопья. Ранние декабрьские сумерки хлынули в город. Серый несет чемоданчик Димки, а сидор Студент волочит по влажному снегу, оставляя борозду. Канадка у Серого оттопырена от бутылки.
— Я тебя размещу, — говорит Серый. — У меня есть. Если ты мне друг, то и я тебе друг. Вот так. Вот так… Метро «Аэропорт» знаешь?
— Еще бы не знать!
Димка запевает «первым делом, первым делом самолеты». Серый ладно вторит ему — у него прекрасный слух. Так, в приятнейшем головокружении, они доезжают до знакомых Димке мест у метро «Аэропорт», но Серый не дает направиться к «Полбанке», чтобы Студент на последние деньги угостил настоящего друга, а тянет дальше, в глубь бараков. Наконец, одолев кривые переулки с качающимися домами, сугробы, незамерзшие болотца, дыры в заборах, сады с царапающими ветвями и оказавшись таким сложным путем близ самого Инвалидного рынка, Димка видит перед собой длинный двухэтажный барак, темный от сырости, с мутными, но светящимися электричеством окнами; вокруг барака снежный грязный пустырь, охваченный высоким, с проломами, забором. Он видел и раньше этот пустырь с бараком, но никогда не обращал на него внимания.
— Погоди, — говорит Серый и оставляет Димку на ветру, среди снежных хлопьев, лижущих лицо.
Проходит довольно много времени, тягучего и стылого, насквозь пронизанного ветром, и наконец Серый появляется из барака, но не со стороны входа, а откуда-то с тылу, через черную дверь.
— Готово, — говорит Серый и шлепает себя по канадке, воротник которой уже не оттопыривается от бутылки. — Договорились. Давай по-тихому.
Они идут через снежные завалы, скользят на мусоре, картофельной оттаявшей кожуре, отбросах, куче шлака, и наконец Серый нащупывает маленькую дверь, утепленную ватином, поверх которого белеют в сумерках набитые крест-накрест дранки; Разбухшая дверь со звуком пробки отлетает под нажимом плеча,
— Давай, — шепчет Серый. Они оказываются в длинном коридоре, под потолком которого светится желтая нить лампочки. Здесь тепло, как в бане, и слышно потрескивание дров в печах. Димка пальцами протирает очки. Скользя рукой по рябой, в пятнах обвалившейся штукатурки стене, Серый нащупывает боковую дверь с грубо намалеванным номером, осторожно, стараясь не скрипеть, открывает ее, щелкает выключателем, высветив узкий пенал барачной комнатушки, три койки с голыми проволочными матрасами, три тумбочки, выкрашенные грубыми взмахами кисти, и на стене плакат, изображающий юную девушку с надписью поперек груди: «В СССР оспы нет!» Серый делает шаг, доски пола выгибаются под его ногой и покрываются темными лужицами воды, выступившей из щелей. Серый пританцовывает, и вода бьет вверх фонтанчиками