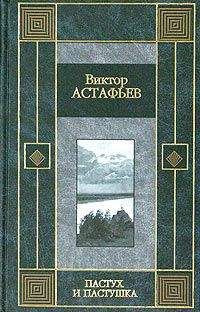Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось по нутру.
— …Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще и не знаешь, куда она комлем лежит. Немцам вон и бордели, и отпуска… а у нас потаскушку свалишь — и праздник тебе.
«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис. — А-а, про баб опять…»
— К потаскушкам бы и приставал. Зачем же к честной женщине-то лезешь? Озверел?
— Все они честные. Такая вот «честная» и наградила трофейным добром. Столько поубито и столько сведено народу, чего там какая-то бабенка… А ты бы вправду застрелил бы меня? — испытывающе, сбоку глядел Мохнаков на лейтенанта.
— Да!
Старшина скрипуче крякнул, затянулся цигаркой, выпустил себе в глаза дым.
— Светлый ты парень! Почитаю я тебя. — Мохнаков пальцами раздавил цигарку, вытер руку об валенок. — За то почитаю, чего сам не имею… Э-эх. Шибко ты молод. Не понять тебе. Весь я вышел. Сердце истратил… И не жаль мне никого. Мне и себя не жаль. Не вылечусь я. Не откуплюсь этим золотом. Так это. Дурь, блажь. Баловство.
Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес:
— Может, попросить полкового врача?.. Я бы… мог…
— Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!.. Эх ты, Боря, Боря, разудала голова! Меня ж в штрафную запердячат.
— В штрафную?
— Ну а куда же еще?
— Да за что в штрафную-то?
— За смелость. Понял?
— Пойдем отсюда, Мохнаков, а? Пойдем!
Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж было протянул, но спохватился, убрал руку, еще запоет: «Не… не… не…»
По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым, рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу. Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке, чудилось что-то сумрачное. В глуби его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое, темень там была и буреломиик.
Борису даже и не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной силы человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь и умирать должен по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток. Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпитале, знал холод, окружения, прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что придерживался старинного правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.
Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем. А что теперь? Что дальше?
Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка Мохнакова. Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Мохнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто запаленного снегом, сидел немец. Рукавица с кроликовой оторочкой была высунута из снега и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивильные люди не давали.
Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег наверху был чист и рассыпчат, но внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.
Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:
— Хифе… Хильфе…
Под недавней, остренькой, но уже седой щетиной шелушились коросты, впалые щеки земляно чернели, всюду: в коростах, в бровях и даже в ресницах — копошились, спешили доесть человека вши.
— Хильфе! Хильфе!.. За мир битте… реттен зи мих…
— Чего он говорит?
— Просит спасти.
— Спасти! — Мохнаков покачал головой. — С двумя-то перебитыми лапами? — старшина снова отхаркнулся в снег. — Своих с такими ранениями хоронить сегодня будем…
Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.
Немец ловил его взгляд:
— Реттен зи виллен… Хильфе…
— Иди-ка отсудова, лейтенант.
— Ты что? Ты что задумал?
— Я тебе сказал — иди! — снимая с плеча автомат, повторил Мохнаков. — И не оглядывайся.
Борис понимал — немец обречен, иначе такой живучий человек примет еще столько нечеловеческих мук, и самая страшная и последняя мука, когда твари ползучие доедают человека. Добивши этого горемыку, Мохнаков сотворит большую милость, иначе они будут спускаться по остывающему телу, с головы, из ушей, бровей под одежду, облепит пояс, кишеть будут под мышками и, наконец, в комок собьются в промежности, будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него серой пылью, покопошатся и застынут вокруг трупа. Они тоже подохнут! Напьются крови, нажрутся и передохнут! Пере-до-о-ох ну т!..
Неистовое, мстительное чувство охватило Бориса, вызвало в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченный морозом, царапал сердце.
Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами.
— Да иди же ты, ебут твою мать! — гаркнул Мохнаков.
Рванувшись вверх, Борис приступил полу шинели, упал и замолотил, замолотил руками и ногами, словно выбивался вплавь из давящей глубины.
Донеслось хриплое, надтреснутое завывание — так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном.
Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал, слышал предсмертный вой и экономную очередь автомата, оборвавшую его.
Под ясным и холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались люди. Снежно и тихо было вокруг, до звона в ушах.
Мохнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее, вытряхнув, будто из домовины, окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожей, разулся и начал вытряхивать из валенок снег.
— Чо сидишь-то? Маму вспомнил? Переверни портянки сухим концом!
Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу и в стае клюют. Больную птицу…»
От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором, в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, ужо налажены были пожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластался огонь; в глухо закрытых бочках, на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки — на себя, шинели, валенки и шайки — в бочку.
Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях темнели пятна сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косолобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Антоша Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных, суетливых врагов.
Зрители чистосердечно радовались успехам киношного вояки.
Сами они находились на совсем другой войне.
«Идем в крови и пламени, в пороховом дыму».
Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченных реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо внаклон, редко-редко где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий подбоченившийся столбик.
Старшину и Бориса согнали на обочину дороги «студебеккеры». В машинах плотно, один к одному, сидели, замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем, пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые.
— Ишь, — ругался Мохнаков, — фрицы на машинах, а мы пешком! Хочь дома, хочь в плену, хочь бы на том свете…
— Часы-то взял?
— Не, выбросил.
Вечер медленно опускался. Радио где-то слышалось. Синь проступала по оврагам, жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля. Под деревьями загустело. Даже в кювете настоялась синь.
Ходили саперы со щупами и тоже таскали за собой синие, бесплотные тени. Поля в танковых и машинных следах. Израненная, тихая земелюшка вся перепоясана серыми бинтами. Из края в край по ней искры ходили, не остыло еще, не отболело, видать, страдающее тело ее, синими сумерками накрывало усталую, безропотную землю.
Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно раскраснелась. Ушлые глазки сияли лучезарно и возбужденно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у печки, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости.