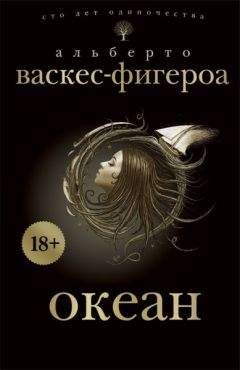Уже засыпая, она обнаружила, что в ее воспоминаниях черты Асдрубаля Пердомо сливаются с почти забытыми чертами Факундо Каморры.
День был воскресный, и на улицах Сан-Карлоса безраздельно хозяйничал зной.
Ранним утром, еще до того как солнце поднималось достаточно высоко, чтобы прогреть неподвижный воздух, местные жители наряжались в свою лучшую одежду и семьями отправлялись в церковь, обмениваясь приветствиями при входе или под сенью цветущих арагуанеев[21]. Однако после полудня под открытым небом оставались только собаки да измученные лошади, которые нервно отгоняли мух, брыкаясь и чуть ли не высекая искры из булыжников, которыми было замощено большинство городских улиц.
Даже двери пульперий[22] португальцев или «источников содовой» итальянцев и креолов были закрыты до тех пор, пока с севера не поступал прохладный воздух, приглашая людей вновь выйти из дома. Так что Пердомо еще повезло — им удалось купить несколько кукурузных лепешек в единственной продуктовой лавке, которая оставалась открытой. Чтобы их съесть, пришлось устроиться на обшарпанной скамье из голубых плиток, уложенных вокруг толстой и развесистой сейбы.
Сан-Карлос не имел ничего общего с Каракасом. Можно было подумать, что он находился в другой стране, а то и на другом континенте: это был небольшой город, тихий и сонный, который, казалось, в глубине души гордился своим колониальным прошлым, не успев еще испытать на себе агрессивного влияния нефтяного бума и массового нашествия иммигрантов.
Ни тебе сумасшедшей гонки, ни стресса столичной жизни — таким Сан-Карлос вступил во вторую половину XX века. Сохранилась незыблемой традиция по воскресеньям рано возвращаться домой и вкушать всей семьей обильный обед: жаркое, сладости домашнего изготовления, пиво рекой и крепкий черный кофе.
Затем закуривали сигары, мужчинам подавали ром, а женщинам — сладкий ликер, и в продолжение десерта все слушали старика — главу семьи, который рассказывал свои истории или произносил речи, пока его голова не склонялась на грудь и он не начинал храпеть.
Дома Сан-Карлоса, с толстыми стенами и высокими потолками, тенистые в противоположность залитым солнцем фасадам с их яркими красками, были жилищами, в которых, казалось, намеренно удерживали темноту и прохладу ночи, поскольку полумрак был в этих местах единственным известным способом спасения от знойной тропической жары.
Сан-Карлос, его здания и его жители застряли где-то в далеком прошлом, словно годы или история не проносились над их крышами с той же скоростью, что и для всего остального мира. Здесь по-прежнему с подозрением относились к «господам» оборванцам, что расселись посреди площади на скамье и лопают лепешки: эта публика только и ждет, когда хозяева заснут, чтобы потихоньку забраться в дом и что-нибудь стянуть.
Айза чувствовала, что сквозь жалюзи балконов и окон за каждым их движением неотрывно следили недоброжелательные люди, и переживала не за себя (благо она уже привыкла, что за ней вечно шпионят распаленные мужчины и завистливые женщины), а за братьев и особенно за мать, которой такое подсматривание и такой прием были словно нож в сердце.
Они превратились в отверженных — и это они-то, Вглубьморя, всегда гордившиеся своими корнями! Они из поколения в поколение жили на одном месте, у них были крепкий дом и вполне заслуженная репутация людей честных, уравновешенных и работящих. И вот теперь они обречены скитаться — без цели, без пункта назначения, без родины — по городам и весям, ночевать в мотелях и питаться в общественных местах под презрительными взглядами местных жителей.
Им негде было помыться или справить нужду, и все их имущество лежало в наспех перевязанной картонной коробке, которую без особого усилия несли по очереди Себастьян и Асдрубаль.
Они были иммигрантами и в какой-то степени разделяли горькую судьбу тех, кто приехал раньше или еще должен был приехать. Но они чувствовали себя самыми несчастными, потому что никогда не желали другой жизни, отличной от той, которую вели раньше, и не вынашивали мечту о власти и богатстве.
— Давайте вернемся.
Это сказал Асдрубаль.
— Куда?
— На Лансароте. Домой, откуда мы никогда не должны были уезжать.
— Ты сам знаешь, что не можешь вернуться, а мы должны разделить твою судьбу. Так всегда было.
— Я предпочитаю тюрьму, лишь бы на нас так не смотрели. Почему вы трое должны расплачиваться за то, что совершил я один?
— Мы это уже обсуждали, не имеет смысла к этому возвращаться, — ответила мать. — Будем и впредь держаться все вместе и никогда туда не вернемся.
Асдрубаль жестом обвел пустынную площадь, раскаленную солнцем.
— Это что, лучше? — спросил он с упреком. — Знаешь, чего ты добьешься, если мы будем продолжать в том же духе? Что я возьму и исчезну. Уеду туда, где вам меня не найти, или застрелюсь, чтобы вы тихо-мирно вернулись домой, не страшась наказания.
— Ты этого не сделаешь… — спокойно сказала Аурелия. — Ты мой сын, и я знаю, что ты этого не сделаешь. Ты не способен покинуть нас в таких обстоятельствах, потому что мы ни за что не вернулись бы без тебя и не успокоились бы, пока тебя не нашли. — Она горько улыбнулась: — А что до того, чтобы убить себя… Я тебя не так воспитала.
— От отчаяния человек меняется.
— Мы еще не отчаялись, — вмешался старший брат. — Мы по-прежнему вместе и все живы-здоровы. Теперь у нас даже есть кое-какие деньги и вид на жительство. Завтра, когда город встряхнется ото сна, уверен, мы найдем работу.
— А сегодня ночью?
— Вернемся в гостиницу.
— В гостиницу? — удивился Асдрубаль. — И ты называешь это гостиницей? Нас искусали комары и клопы, тараканы бегали по кровати, а от жары мы чуть не задохнулись. Как ты можешь опять привести маму и Айзу в такое место?
— А ты предпочитаешь заночевать здесь, на площади, у всех на виду?
— Может быть… Может быть, почему бы и нет? В сущности, какое мне дело до людей? Если здесь больше воздуха и тараканы не бегают по лицу, я предпочитаю спать на скамейке. — Асдрубаль помолчал и повернулся к Айзе, которая, как всегда, была молчаливой и отрешенной, словно жила в другом мире. — Как ты считаешь? — поинтересовался он. — Иногда кажется, что тебя все это не касается.
Девушка словно очнулась от глубокого сна, задумчиво посмотрела на брата, и наконец на ее губах появилась легкая улыбка, осветившая ее лицо, — будто порыв свежего ветра пронесся по раскаленной площади, унося далеко-далеко горькие слова и грустные предчувствия.
— Если нам суждено будет исчезнуть, мы исчезнем вместе, — произнесла она, как всегда серьезно. — А если нам придется покончить с собой, мы сделаем это все вместе. Но не бойся: этот день еще не наступил. Успокойся и наслаждайся местом и моментом. Мне нравится эта площадь! — добавила она, обводя взглядом вокруг. — Мне нравятся эти дома веселых тонов и цветы, пальмы и это дерево — такое большое и развесистое. — Она вновь улыбнулась. — Мне нравится сидеть на этой скамейке и ждать.
— Ждать чего?
Она пожала плечами и вновь погрузилась в молчание. Ее внимание было приковано к крохотному колибри, который повис в воздухе, миллион раз взмахивая своими хрупкими крылышками, пока вводил свой длинный острый клюв в ярко-красный цветок.
Асдрубаль Пердомо повернулся к матери и брату в поисках разъяснений, но с первого взгляда понял, что те пребывают в таком же недоумении, что и он, поэтому лишь откинулся на спинку скамьи и показал язык окну, из которого, по его ощущениям, за ним наблюдала сквозь жалюзи пара черных глаз.
Себастьян достал сигарету, и, как всегда, они молча выкурили ее на пару. Бог с ним, пускай время течет здесь медленнее, чем в любом другом месте на планете. Они старались проникнуться настроением сестры, считавшей, что эта вымершая площадь действительно красивое место, окруженное домами яркой расцветки, высокими пальмами, крохотными колибри и гигантскими густолиственными сейбами.
Час спустя, когда зной усилился и все, кроме Айзы, клевали носом, в конце узкой мощеной улицы бесшумно возник пикап и медленно покатился вперед, словно боясь потревожить послеобеденный сон города или ведя поиски незнакомого дома.
Доехав до площади, он остановился, и двигатель смолк. Из пикапа вышла Селесте Баэс, прислонилась к дверце машины.
— Привет! — неуверенно поздоровалась она.
— Привет! — ответила Айза, пока ее мать и братья открывали глаза.
— Я вернулась.
Айза ничего не сказала, только кивнула, и нельзя было понять, то ли она хотела этим сказать, что и так видит, то ли что ей было заранее известно, что так оно и случится.
Селесте пересекла тротуар, желая оказаться в тени, и встала прямо перед Пердомо. Было заметно, что она смущена и словно спрашивает себя, какого черта она сейчас здесь делает.