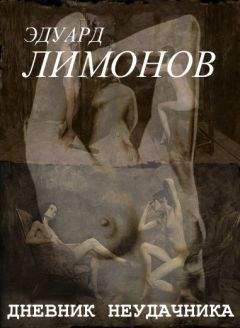Жрет Эдвард курицу, как дерево твердую. Пыхтит, старается. Горло ободрал и измазался, в жире весь.
Сам виноват — позарился на дешевизну — видимое ли дело, 38 центов за паунд курица стоила — вдвое дешевле самой дешевой обычно курицы. Влип Эдвард. Не покупайте дешевого мяса — господа!
Не выброшу — все равно доем. Я не американец брезгливый какой, кто полтарелки мяса после себя оставит и в корзину с мусором выбросит. Я из страны, где войны и несчастья в этом веке навалом шли, У меня к еде отношение бережное. Я еду никогда не выбрасывал, после меня коту или собаке с тарелки и вылизать нечего. Мужик я, говорю я, по естеству, как есть мужик. Да еще и от голодных годов моих в Москве, не только от наследственности (деды мои оба в деревне родились) эта пищевая скаредность происходит. Я косточки всегда, бывало, обглодаю, что от рыбы, что от мяса — одинаково чисто, с полировочкой, и жир срезать не срезаю — не отбрасываю — ем все.
Я нарисовал женщину и поставил между ее ног крест. Я рисовал бессознательно, но в ее сторону были направлены все стрелы. Стена гадких темно-синих стрел была грозно нацелена в голую, беспомощно разведшую руки женщину с крестом между ног. Вместо головы у женщины было колесо — грустное колесо.
Ужас и террор наполняли лист. Так я рисовал бессознательно темным синим цветом автоматической ручкой, в то время как говорил по телефону оживленно и не без веселости с одной из моих подруг.
К стене стрел в самом низу я почему-то пририсовал одинокий кран, а из него падали две капли. Непристойный кран с вентилем.
Ох, поэтик Эдька. Вот это работа — правительства свергать. Изысканная, возбуждающая. За гигантские деньги.
Вы приходите в контору — сидит поэтик Эдъка в очках, вежливо улыбается. Вам правительство свергнуть? Сколько платить будете?
И начинается… Ох, поэтик Эдька с Первой авеню в Нью-Йорке — доживем ли, сможем ли когда… А мечта яркая, деятельная, сильная.
Нервный палеонтолог, специалист по ихтиозаврам, не прощаясь ушел по-английски из подвальной квартиры в Гринвич-Билледж с большого и смутного парти. Я уходил тоже, мы прошли с ним один блок домов вместе, и вот что он говорил:
«Я люблю такую рыбину, чтобы в пасть ее можно было войти, не сгибаясь, и идти по желудку, как по коридору министерства иностранных дел.
Чтобы, если вы идете с дамой, не было бы неудобств и не пришлось бы хвататься за стены. Просторность — это мое первое требование к рыбе».
С последними словами палеонтолог вскочил в подъехавшее такси и умчался от меня навсегда.
Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести. Охапками, кучами, сумками, мешками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина Блумингдэйл и тащить к себе в квартиру.
Духи мужские, корзину духов; пусть поплескивают — зеленые, кремы, шляпы, много разных шуб и костюмов и свитеров. Воруй, тащи, грабь — веселись, наслаждение получай, что не дотащим — в грязь и снег вышвырнем, что не возьмем — бритвой порежем, чтоб никому не досталось, вот она — бритва — скользь в руку — ага, коси, молоти, руби!
— И по лампе вдарь! — Возьми зонт — Жан! — На торшер — Филипп — ебни по зеркалу! — (Хрясть! Хрусть!)
— А мы за это шею гнули, жизни лишались, живот надрывали, вот вам, вот! — Эй, пори белье женское, режь его, розовое да голубое, трусами пол устилай! — Гляди, какие большие, — Лазарь! — Ну и размер, на какую же жопу и рассчитаны!
— И этот отдел переполосуем, танцуй-пляши на рубашках ночных да беленьких, ишь ты, порядочные буржуйки в фланельке этой по ночам ебутся, а эти халатики к любовникам днем надевают — пизду при распахнувшихся полах показать, посветить ею.
— Бей, Карлос! — Помогай, Энрико! — Беги сюда, Хуан! — здесь голд этот самый — золото!!! (Ррррр!)
— Пошли пожрем в продовольственный! — Шоколаду хошь? На — шоколаду в карман. Мешок шоколаду возьмем домой. Два мешка шоколаду.
— Вдарь по стеклу! (— Дзынь!)
— Хуячь, руби!
— А вот оторви этот прут, да ебни! (— Хлысть! Хрусть!)
— Ткни эту пизду стулом, чтоб буржуазное достояние не защищала!
— Ой не убивайте, миленькие!
— Бей ее, суку, не иначе как начальница, а то и владелица!
— Мальчики! Мальчики! — что же вы делаете! Умоляю вас — не надо!
— Еби ее, стерву накрашенную — правильно, ребята!
Давно мы в грязи да нищете томились, хуи исстрадались по чистому мясу — дымятся!
— А пианина — Александр — мы с возмущенным народом пустим по лестнице вниз. На дрова! (Гром х-п-з-т-рррррр!)
— И постели эти! (Та-да-да-да-да-дрррр!) Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдэйлу, грелся, и так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это.
Шел статный, в кожаном пальто и кепке, мрачно лежащей на глазах, суровой вечерней походкой все в жизни повидавшего мужчины, по Мэдисон авеню.
Навстречу в плащике, при голубых глазах, такой иисусик бледненький и красивенький, блондинисто-водянистый. Шею он на меня искалечил, извернул, глаза растопырил — ужас и восторг в них. Встретил, наконец, нужного зверя.
Но я и волосом не двинул, пошел себе дальше, зная, что он стоит и смотрит и ждет. И обожает, боясь, меня — кожаного, бандитского, злодейского.
Раннее утро. Снег и солнце. Стоит человек с крючковатым носом и глазом тихого убийцы и наблюдает, как жопатые рабочие разрушают брюхо большого дома при помощи костров и зубов гигантского бульдозера. Удовольствие в глазу и носу человека. Чуть ли не дремотно мурлычет.
Полежим на животах. Ебаться иной раз скушно. Дай мне цветок, и я с полускукой, полуинтересом потрогаю им твою розовую щелку. Бог ты мой — уж эти мне блондинки — прикоснуться нельзя…
После долгой ебли как кашей объелся… Но зад ее внимание привлек. Ишь, зад какой… Сунув большой палец между половинок ее пухлой попки, слегка палец повертел. Предварительно то есть отверстие как бы расклеил, раскрыл. И тут же член туда воткнул.
Как взвизгнет, рванется. Но я не отпустил, за зад к себе прижал, члену моему так прелестно. Ори, ори, мне все равно, что больно тебе, лишь бы мне хорошо, я даже боли крик и люблю — с криком и болью лучше. Довести бы тебя, чтоб тут и померла.
— А-а-а! А-а-а! А-а-а!
Вперед-назад — хуй по скользкой кишке. Приятно, что корчится и ногами стучит, хую хорошо, тесно, это тебе не пизда, пизда больше, а эта дырочка маленькая. И с последней ненавистью к грудастой зверюге почти разорвал там что-то в ней в глубине о твердый шар конца хуя. Получай! Как автоматной очередью — спермой туда. Закупорил.
И, выдернув хуй, упал поцелуем на влажную исстрадавшуюся, жалко трепещущую задницу. Co-зверюга ты моя, самка, сучечка!.. Ну не вой, не вой! Прости!
Если вас кто любит, а вы ее нет, это дикий пещерный ужас. Особенно если человек милый, хороший. На своей шкуре в случае с миллионеровой экономкой испытываю.
Как-то в вечер плакала, кричала, вином в меня плеснула в бессильности, после свистящим шепотом «Я обожаю тебя!» говорила, в кошмар и расстройство перешла, хотя и ничего ей не произнес такого, что не люблю или ухожу. Нутром чувствует, что недолгий я гость.
А что, могу ли себя заставить? Нет, увы. Лучшим другом она мне ощущается. На любовь себя не подтолкнешь, не изнасилуешь. Никто тут не виноват. А уважать я ее очень и очень уважаю.
И ценю. Талантливая она, да и хорошая. Но ебаться не могу с ней — как кровосмешение стыдное, как, наверное, маму ебать, то же чувство.
Дома. Весна. Чернильное небо. Иду гениальный, как Рембо. Вернее, не весна — дело к весне. Фиалками пахнет, хотя ясно, что нигде никаких фиалок. Смутные надежы — в ярко освещенное место когда-то войти и увидеть глаза и весь облик светлый, похабный, усмехающийся — ее. Никогда не видев ранее — узнаю, брошусь — «Идем!» Ледяная рука. Смех. «Идемте! Господин поэт!» На косточках кисти руки ее — ссадины.
Как ебать-то тебя буду — такую любимую. При вербах, в святой понедельник, в святую пятницу, в воскресение христово, при свечечках что ли, при молитвах, отстояв перед тем долгий пост, терниями исколотый, босиком, тернии и член искололи и чресла вокруг… тебя — тонконогую…
Иногда я плачу от злости. От злости бью кулаком в собственную ладонь, выругиваюсь, и слезы брызжут из глаз.
А вы делаете это, можете?
Утром шел снег, но к чаю небо очистилось, и вышло зимнее солнце.
В воздухе была тревожность разлита, как будто вам одиннадцать лет и вы ожидаете не то наказания, не то награждения за содеянное накануне и мелко трусите перед будущей огромной жизнью. И слоняетесь из угла в угол, и слоняетесь без конца, теребя шлейки коротких штанов.