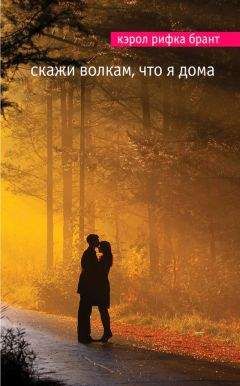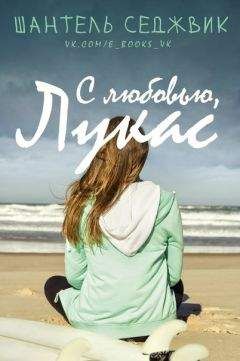— Ой, Джуни. Это же ваш с Гретой портрет. Какой хороший!
Я молча кивнула.
— Вы здесь обе такие серьезные. Такие… взрослые.
Я снова кивнула.
— И очень красивые. Красивые… э… как на картине. — Миссис Лестер хихикнула. — У нас теперь новый большой ксерокс. Можно отснять всю статью на один лист.
— Было бы здорово, да.
Наверное, вид у меня был встревоженный и напряженный, потому что миссис Лестер тут же умчалась к себе в кабинет. И вернулась с двумя листами, двумя копиями статьи.
— Ой, я только одну просила.
— Я знаю, да. Но нам тоже нужно. Повесим на стенде.
— На стенде?
— На нашей доске объявлений. Вы с Гретой теперь знаменитости. Произведение искусства. Людям будет приятно узнать, что и у нас есть свои знаменитости. Если ты понимаешь, о чем я…
— Нет. Лучше не надо. Мы… нам с ней… мы с ней обе не любим привлекать внимание.
— И все-таки я настаиваю, Джун. Не надо стесняться. «Откройтесь, не прячьте свой свет»… ну, и так далее.
Я знала, что есть единственный способ убедить миссис Лестер не вешать статью на стенд: сказать, что портрет написал моя дядя Финн, недавно умерший от СПИДа, и что это немного больная тема для всей нашей семьи. Думаю, миссис Лестер хватило бы одного слова «СПИД», но я не смогла ничего сказать. Не смогла притвориться, что мне неловко и стыдно за дядю Финна.
Я взяла свою копию, сложила лист так, чтобы снимок портрета оказался внутри, и поднялась обратно в читальный зал. Мне хотелось проверить, можно ли будет потихонечку снять статью с доски объявлений, когда ее там повесят, но, как выяснилось, нельзя. Все объявления висели за стеклянными дверцами, запиравшимися на замок.
Потом я отправилась в лес. Сложила лист со статьей несколько раз, так чтобы он поместился в кармане куртки. Я шла, шла и шла — до тех пор, пока не услышала вой волков. Остановилась, достала лист из кармана. Я думала, что в статье будет еще много всего о Финне. Но там оставался лишь один абзац:
«На автопортрете под названием „Этот старик“ — последней картине из проданных Уэйссом и, вероятно, самой известной его работе, — художник изобразил себя в мешковатом пиджаке, надетом на голое тело. Он стоит над прудом с крокодилами и держит в вытянутой руке огромное человеческое сердце. На его голой груди видны плохо зажившие шрамы от резаных ран, которые складываются в слово ПУСТО. Зрителя прежде всего поражает, насколько все это искренне. Никакого позерства, никакой горькой иронии. Когда смотришь на эту картину, действительно веришь, что ты застал человека, изображенного на полотне, за миг до того, как он разожмет пальцы и уронит влажный пульсирующий комок, и возникает пронзительное ощущение, что художник отдал тебе все, что мог. В 1979 году „Этот старик“ был продан на аукционе за 200 000 долларов. По утверждению сотрудников „Сотбис“, цена на последнюю работу художника, „Скажи волкам, что я дома“, может подняться до 700 000 долларов и выше».
Наверное, я должна была ахнуть от изумления, узнав, сколько стоит наш с Гретой портрет. Но меня это ни капельки не взволновало. Какая разница, сколько он стоит, если мы все равно никогда его не продадим? Нет, меня поразило другое. На портрете у меня не было пуговиц. На снимке в газете я была в простой черной футболке. Без всяких пуговиц.
Когда я вернулась домой, портрета там уже не было. Родители снова упаковали его в черный пластиковый пакет и отвезли в местное отделение «Бэнк оф Нью-Йорк», где его поместили в хранилище глубоко в подвале. Мне представились наши с Гретой лица, глядящие в темноту. И я подумала: хорошо, что я там не одна. Пусть даже с Гретой — все равно это лучше, чем быть в одной в такой непроницаемой темноте.
Родители специализируются на отчетности для предприятий общественного питания. Поэтому семейство Элбас пользуется определенными привилегиями в ресторанах по всему Вестчестеру. Нас кормят бесплатно. И для нас всегда находится свободный столик, даже когда все столы заказаны на несколько дней вперед или когда перед входом толпится очередь. Наверное, в этой связи я должна была чувствовать себя какой-то особенной. Однако на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Ведь вполне очевидно, что мы самые обыкновенные люди, а со стороны это смотрится так, будто мы — хамы, которые лезут без очереди. Даже Грета считает, что это не очень прилично. И папа тоже. У нас в семье только мама любит иной раз потешить тщеславие.
Из-за похорон дяди Финна, запарки с налоговыми декларациями и репетиций Греты мы даже не справили папин день рождения. Пока мы собирались его отметить, прошел почти месяц. Наконец мама решительно заявила, что ее не волнует, что сегодня вторник и что на работе завал. Завал, он как есть, так и будет. А мы и так слишком долго откладывали папин праздник. В общем, бросаем все и идем веселиться.
Папа выбрал японский ресторан «Гасе». Это был очень хороший выбор, потому что родители не занимаются отчетностью «Гасе» и еще потому, что это и вправду крутой ресторан — если под настроение. Хозяин «Гасе» купил в Японии древнюю сельскую усадьбу шестнадцатого века, разобрал ее, переправил в Америку, восстановил в первозданном виде и открыл ресторан. Еду здесь готовят прямо при посетителях — на жаровнях, расположенных в центре столов, — а на заднем дворе разбит маленький японский садик с ручейком, горбатыми мостиками и скамейками в тихих, почти потайных уголках.
Да, это очень хорошее место. Если ты в настроении. Но в тот вечер ни у кого из нас настроения не было.
Потому что дни рождения мы всегда отмечали с Финном. Всегда. Иногда мы приезжали к нему в Нью-Йорк, и он сам заказывал столик в каком-нибудь ресторане. Иногда Финн приезжал к нам в Вестчестер. Это был первый день рождения, который мы справляли без Финна. Мама предложила позвать Инграмов, но никто ее не поддержал. Даже Грета.
— Отлично выглядите, девчонки, — заметил папа, когда мы садились в микроавтобус. Мы с Гретой переглянулись и закатили глаза.
Я, как всегда, села сзади. Грета — на ряд впереди. Она была в полосатых джинсах с дырками на коленях. Я — в черной юбке и безразмерном огромном свитере. Я не стала надевать сапоги, которые подарил мне Финн. В тот вечер я не могла их надеть.
Всю дорогу до ресторана никто не произнес ни слова. Папа включил музыку, свою любимую кассету «Лучшие песни Саймона и Гарфункеля». Мои родители слушают только альбомы, в названии которых присутствуют «лучшие песни» и «величайшие хиты». Как будто им претит сама мысль оскорбить свое чувство прекрасного хотя бы одной композицией не из лучших. Я смотрела в окно и вспоминала обо всех днях рождения, которые мы отмечали с Финном. Папино 35-летие — в сумрачном, но стильном марроканском местечке, которое нашел Финн. Десять лет Грете — в итальянском ресторане, где на всех пиццах кусочками перца было выложено «С днем рождения, Грета!». Мое 12-летие, когда Финн снял целый банкетный зал в старом отеле, и мы все играли в викторианские салонные игры, о которых он вычитал в книжке. Финн надел фрак и цилиндр и весь вечер говорил с английским акцентом. Это было так заразительно, что под конец и мы тоже заговорили «по-викториански». Все, даже Грета. Это было сплошное «не соблаговолите ли вы…», «окажите любезность» и «ах, оставьте», и у нас находились тысячи причин, чтобы обратиться друг к другу с «экий вы, право, прохвост и невежа».
Потом еще было мамино 40-летие, когда я сидела рядом с Финном в том совершенно волшебном ресторане с живой джазовой музыкой и свечами, стоявшими на столах в квадратных подсвечниках из толстого стекла. Мне тогда было десять, Грете — двенадцать. Я наблюдала, как отблеск свечи плясал и подрагивал на маминой щеке, когда она открывала подарок от Финна. Финн всегда заворачивал подарки в такую красивую бумагу, что ее было жалко выбрасывать. В тот раз это была темно-бордовая бархатная бумага — как будто и вправду настоящий бархат. Мама открывала подарок медленно и осторожно, чтобы случайно не надорвать бумагу. Она раскрыла сверток с одной стороны и бережно вытряхнула из него книгу. Только это была не книга, а альбом для зарисовок в твердом черном переплете.
Теперь этот альбом поселился на книжной полке в комнате Греты. Внутри, на первой странице, Финн написал: «Ты знаешь, что хочешь…» — и нарисовал крошечный мамин портрет с карандашом в руках. Действительно крошечный, высотой сантиметра два, не больше. Но все равно сразу видно, что там нарисована именно мама. Это просто фантастика. Финн и вправду был гениальным художником.
Я хорошо помню тот вечер. Папа вполголоса спорил с Гретой, потому что она не хотела класть салфетку на колени. Все это время Финн что-то делал со своей салфеткой, вертел ее у себя на коленях и так и этак, а потом поднял ее из-под стола, и стало видно, что он сложил из салфетки бабочку. Финн протянул ее Грете со словами: «Смотри, у меня тут есть кое-кто, кому очень нужно присесть на коленки к какой-нибудь девочке». Грета рассмеялась, схватила бабочку и положила себе на колени, а папа улыбнулся Финну. Помню, мне тоже хотелось бабочку из салфетки. Мне очень хотелось, чтобы Финн сложил что-нибудь и для меня. Я уже собиралась его попросить, но когда обернулась к нему, он глядел на мою маму. Глядел пристально, не отрываясь. А мама как раз раскрыла альбом и смотрела на тот рисунок внутри, на свое миниатюрное изображение. Потом медленно подняла голову и посмотрела на Финна. Не улыбнулась ему, не сказала «спасибо», как это принято говорить, когда тебе что-то дарят. Нет. Она просто смотрела на Финна, напряженно и грустно. А потом сжала губы и медленно покачала головой. Закрыла альбом, вернула его в упаковочную бумагу и убрала сверток под стол. Этот момент отпечатался у меня в памяти с фотографической точностью. Бывают такие воспоминания, которые остаются с тобой навсегда. Вплоть до мельчайших подробностей. Мгновения, застывшие во времени. Не знаю, почему так бывает. Но эта картина — Финн внимательно смотрит на маму, мама печально качает головой — до сих пор стоит у меня перед глазами.