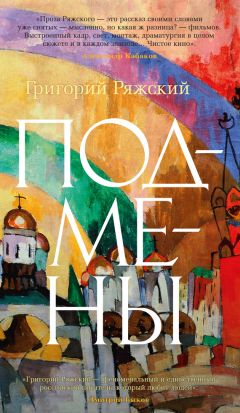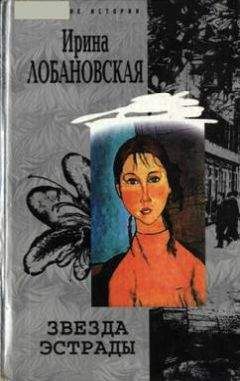4
После той встречи на Девятое мая, оставившей в его душе ужасно нехороший след, он ещё долго приходил в себя, медленно привыкая к новому положению дел. По большому счёту, как он уже понимал, биться ему теперь было не за что, как незачем теперь было проводить и ранее задуманную кардинальную реорганизацию вверенного ему научно-учебного подразделения. И вообще, следовало крепко подумать о том, как строить дальнейшую жизнь – на что и на кого опереться и какое направление в работе, начиная с этого дня, рассматривать как приоритетное.
К этому времени Лёка, закончив восьмилетку, сдал последний экзамен, и Дворкин решил увезти семью к морю, на юг, в Судак какой-нибудь или Коктебель, неважно. Хотелось отвлечь голову от разных мыслей, да и просто пообщаться с сыном, о существовании которого в последнее время он вспоминал, лишь пересекшись с ним при выходе из ванной или встретившись за субботне-воскресным завтраком. После этого расходились по интересам: Лёка – фотографировать натуру, Моисей – убредал в свою обитель, плотно притворив за собой дверь спального кабинета, чтобы, опустившись в полукресло перед письменным столом, кроить и вновь перекраивать творческий план на остаток неясной жизни. Вера же Андреевна, пока не начала работать на Додика, выходные предпочитала проводить вне дома, посещая рынки и косметологический кабинет при Институте красоты, что, недавно переехав, только-только открылся на Калининском проспекте. Должна была выглядеть – чтобы держать форму, к чему обязывало место независимой домохозяйки при научном муже. Молода-то молода, а только и тут прыщик выдавить да заполировать, и там, глядишь, ненужную папилломочку с шеи убрать. В общем, набиралось чего поделать, если поискать. По-видимому, именно эта особенность Моисеевой жены – умение выглядеть так, что остальное в расчёт не принималось, – и отменило первую мысль Додика Бабасяна об абсолютной неисполнимости сотрудничества.
Предложению мужа слетать в Крым обрадовались оба, но при этом каждый желал иметь своё. Первым делом Вера поинтересовалась, почём там санатории.
– Где там? – не понял Моисей.
– На юге, – удивилась жена, – где ж ещё?
– А какие тебя интересуют? – уточнил он. – Что тебя беспокоит?
– Да все интересуют, – пожала плечами супруга, – и всё беспокоит, особенно нервы. – И с вызовом посмотрела на супруга.
Звонка от Додика пока ещё не поступало, но ощущение, что он непременно последует и окажется призывным, уже имелось. Это прибавляло уверенности.
– Ну а ты? – обратился он к сыну. – В Коктебеле – Волошин, Карадаг и Сердоликовая бухта, в Судаке – Дженевез-Кая – Генуэзская крепость, четырнадцатый век, консульский замок, прекрасно, кстати, сохранившийся. Что выбираешь?
– Я – за бухту! – высказался Лёка.
– А я за санаторий, неважно где, но не меньше вэцээспээсовского, – жёстко обозначила позицию Лёкина мать.
– Тогда – Коктебель, – подвёл черту Дворкин. – Живём дикарями, снимаем комнату у моря. Будем пить шампанское, «Новосветское», самое лучшее, восемьдесят копеек стакан. Или шестьдесят копеек – бутылка местного «Ркацители». Студенты насоветовали, сказали, после второго стакана ничего прекрасней в жизни уже не будет.
Лёка подпрыгнул на месте и отправился упаковывать оба объектива к новенькому широкоугольному «Киеву», отцовскому презенту на окончание восьмилетки. Вера Андреевна ничего не ответила: развернулась и вышла. Она всё ещё любила Моисея, но за годы совместной жизни так и не смогла до конца определиться в том, было ли её чувство элементарно ответной женской любовью, просто так, ни за что, за самоё любовь как она есть. Или оно уже тогда предполагало будущее профессорство у неправославного доцента-ухажёра, владельца отдельных квадратных метров у черты городского центра. Когда он прикасался к ней в постели, намереваясь слиться телами в супружеском единстве, она всё ещё испытывала женское волнение. Но, думая иногда о его причине, вновь не находила годных для себя объяснений, полагая, что тяга к мужу в такие минуты складывается не только из обязанности быть уступчивой и доброй женой, но ещё и в силу не растраченной Моисеем к его сорока семи годам мужской силы. Он был нежен, могуч и неизменно активен. А порой и неутомим, особенно если незадолго до того что-то там у него удачно складывалось в смысле главных научных дел. А получалось – много чаще, нежели наоборот. Он вообще, как она его когда-то пометила для себя, был везунчик: что по части науки, что по прямому мужскому назначению. И такое предопределение походило на правду. В миг телесного соединения с женщиной Моисей тотчас улетал в миры иные, спирально завихрённые, оглушительно прозрачные – да бог знает в какие ещё. В эту первую, самую невообразимую секунду он уже не помнил, кто с ним рядом, с кем соединился телами и о чём говорил до этого. Он уже стремительно плыл, летел, парил, рассекая податливое пространство, и оно неизменно раскрывалось перед ним, освобождая место его несминаемому потоку. То был редкий для мужчины случай, и об этом своём устройстве он, конечно же, знал. Когда-то, на заре своей мужской молодости, он, подметив за собой эту симпатичную особенность, не стал ей противиться. Оттого и погружался теперь в лёгкую прострацию всякий раз, когда, едва задев бедро обнажённой, готовой к любви Верочки, уже по инерции домысливал продолжение, зная, каким оно вот-вот станет, это очередное путешествие в пространство свободного парения и безумного полёта. И потому, несмотря на нескончаемый запас железоёмких атомов крови и неустанный зов плоти, Моисей Дворкин всё ещё не испытывал потребности в других женщинах. И лишь разорвав объятия и придя в себя, он мог позволить себе поразмышлять о недостатках своей супруги или её же преимуществах перед прочими замужними одноплеменницами.
Они улетели на третий день после того разговора. Когда воздушный корабль рейса «Москва – Симферополь», набирая высоту, прорéзал облака, Моисей, сидевший с краю, заглянул в самолётный иллюминатор, надеясь обнаружить в нём остатки земного ландшафта. Однако было поздно: земля, необратимо задёрнутая белёсой мутной ватой, уже не поддавалась видимости. Но почему-то вместо того, чтобы расстроиться или с досадой отвернуться, он ощутил свободу. Да-да, именно её – напоминавшую о себе лишь в минуты озарений, когда он, упоённый внезапным открытием очередного, простейшего из земных способов воздействия на твёрдое тело, подвергаемое сдвигу… после того как он вновь довёл башку до невыносимо приятного изнеможения… когда правила классической механики, соединённые с его так счастливо найденным довеском, вдруг становились непривычными, но точно так же приемлемыми, хотя и пересмотренными с нового удивительного ракурса… – в эти минуты та самая, упоительно новая для него свобода становилась таким же невообразимым открытием. И тогда он следовал за ней, за ним, за ними, спеша, стараясь не упустить тот миг, когда короткое озарение вот-вот начнёт угасать, точно так же внезапно, как и началось, но он успеет выхватить, вырвать из него самое главное – то, что позволяет ему думать и дышать не как все. Он решил, что напишет учебник, самый лучший учебник из всех, какие когда-либо были созданы о его любимом предмете – том, что изучает причины, в угоду которым материалы, сопротивляясь всякому воздействию, не желают становиться вывихнутыми, а силы, оказывающие на них давление, вполне могут развернуться в сторону простого человека. Наука пускай существует отдельно от него, и он не станет строить препон никому из сотрудников кафедры, кто постарается идти его путём в попытке сообщить слово, ранее не сказанное никем, транслировать любые мало-мальски свежие идеи, ломающие закономерности, дальше и глубже которых традиционно заглядывать не принято, хотя вместе с тем и возможно, но только если очень того хотеть, тем гореть, о том мечтать.
Ну и весь лекционный цикл пересмотрит заодно, от и до, предельно обновив его и дополнив. Тоже дело хорошее и нужное. Педагогика – его удел, и уж этого-то он не выпустит из рук, несмотря на чёрную метку власти.
Анастасия Григорьевна, проводив своих, осталась в непривычном одиночестве. Хорошенько поразмыслив, княгиня пришла к выводу, что сам бог дарит ей шанс изведать реакцию соседей-нечестивцев на предварительно обдуманный ею «гнилой» заход в их недобрый адрес. Тем более, уже никто не присовестит и не собьёт прицел. Терпимость или, по крайней мере, нейтралитет в отношении подселенцев, о которых хоть и ненавязчиво, но не уставал намекать зять, временно отступили. Однако никуда не делось и разом усилившееся раздражение, подстёгнутое временно перепавшей вседозволенностью.
Начала с малого, впрочем, иные варианты всё равно отсутствовали. Белым днём, отбросив любую тайность, решила определиться по имущественным правам. Для этого зашла в каморку при кухне, после чего, прикинув усилия, изловчилась и вытолкала оттуда вражеский сундук. Затем неспешными передвижками, упираясь то сбоку, а то и приложившись всем корпусом к фронтальной части, дворкинская тёща дотолкала-таки сундук до пришельской двери. Уже там, на месте расплаты, ей удалось развернуть его так, чтобы длинная сторона сооружения весом под центнер надёжно перекрыла соседям выход из комнаты. Сама же, завершив провокативное деяние, отправилась пройтись по магазинам. По возвращении ожидала любой реакции – чем шумней бы вышло, тем эффективней удалась бы справедливая месть. Да и вообще бы – началось, уже открыто, без всяких яких. На то и был расчёт.