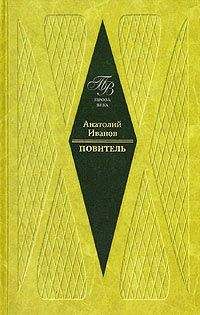— А если в самом деле люди дознаются? Ведь до смерти будешь кандалами звенеть.
Отец сорвался с места, закружился по избенке, выкрикивая:
— На! Бери!.. Чем с живого жилы тянуть!.. — Выхватив из-за пазухи кожаный мешочек, швырнул его Григорию точно так же, как цыган кинул ему. И продолжал метаться из угла в угол. — А то иди докажи! На отца родного… Чего меня стращать? И буду звенеть железом в каторге!.. За вас буду!.. Вот… Волк ты, Гриш-ка-а-а-а!.. Вырастил я тебя…
Но едва Григорий протянул руку, чтобы поднять мешочек, Петр ястребом кинулся на сына, с силой отбросил его к самой стене, схватил обеими руками деньги.
— Не грабастай, ты, змееныш!..
Григорий больно ударился затылком о стену, но не вскрикнул.
— Иди! Доказывай! — не унимался отец. — А то я доберусь до тебя как-нибудь пораньше, я тебе расколю головешку, попомни…
На кровати металась Арина. Петр, кивнув в ее сторону, продолжал плаксиво:
— Вот и мать, старая ведьма… Выдаст ведь, знаю… А я что? Для себя, что ли?.. Задавить бы вас обоих в один час…
— Ты разум, батя, потерял там… на дороге, — проговорил Григорий, потирая ушибленную голову. — Кто тебя выдавать собирается? Зачем бы мне тогда закапывать цыгана?
Петр Бородин удивленно слушал сына, часто моргая слезящимися глазами.
Гришка лег на тулуп, повернулся к стене, проговорил:
— Туши свет, чего людской интерес привлекать на огонь.
Арина до самого утра билась на кровати в жару, задыхаясь от духоты, бормотала что-то. Ни муж, ни сын не подошли к ней.
Был воскресный день.
Лето подходило к концу. С утра на почерневших огородных бурьянах, на прибрежных гальках, на придорожной траве лежала щедрая, дымящаяся роса. Поднявшееся из-за озера негорячее солнце долго сушило их, над землей струился жиденький, еле заметный парок. Земля и воздух нагревались медленно, но в полдень ребятишки, предводительствуемые хлипким, длинношеим Ванькой Бутылкиным и толстощеким Гошкой Тушковым, бегали по улицам уже босиком.
Григорий Бородин в новой синей рубахе не спеша шагал по улице, держа по обыкновению руки в карманах. От него попахивало самогонкой. Под мышкой торчал небольшой сверток.
В самом центре деревушки белел сруб строящейся новой церкви. Поп Афанасий, подоткнув полы длинной рясы, бродил возле стен, трогая желтоватые бревна, а потом нюхал пальцы.
Григорий не любил попа и хотел было свернуть в переулок, но отец Афанасий подозвал его жестом.
— Благослови, батюшка, — смиренно нагнул голову Григорий, подходя.
Поп перекрестил его и опять понюхал пальцы.
— Ты вот что скажи отцу духовному — почему на работу перестал ходить? Я новый дом хочу строить себе, лес нужен, а валить почти некому. Андрея Веселова не сегодня-завтра в солдаты берут…
— В солдаты? — живо переспросил Григорий.
— И Тихона Ракитина, и Федота Артюхина…
— Вон что?
— А ведь лес-то мне нужен. Я заплачу и отпущу все смертные и несмертные грехи твои, и отца твоего, и матери твоей.
При упоминании смертного греха Гришка невольно отшатнулся от попа, и отец Афанасий тотчас нагнулся и вкрадчиво шепнул в ухо:
— Есть, стало быть, за душой грешок тяжкий?
— Что ты, что ты, батюшка… Нету такого.
Поп сурово глянул, отступил на один шаг.
— Ну, запомни на будущее: всякий rpeх отец святой отпустить волен… Так пойдешь завтра в лес?
— Пойду, батюшка, — ответил Григорий.
«Черта с два теперь буду тебе лес рубить, старый сыч, как же, жди… — думал он. — А Андрюху, значит, забирают… Так-так!.. Вон какие дела…»
И Григорий пошел не оглядываясь.
Скоро он свернул с дороги и едва приметной тропинкой вышел на окраину к побеленной избушке. Здесь жила Дуняшка со своей бабушкой, давно ослепшей и настолько дряхлой, что казалось, подует ветерок — упадет она и больше не поднимется.
Дуняшке шел семнадцатый год. Это была невысокая черноволосая девушка с тихим голосом, с какой-то совсем детской, всегда виноватой улыбкой.
Своих родителей Дуняшка не помнила. Они умерли от холеры, когда ей не было еще и трех лет. С тех пор Дуняшка и живет с бабушкой, ведет нехитрое хозяйство, ходит мыть полы, стирать белье и полоть огороды к старосте Зеркалову, лавочнику Алексею Лопатину, отцу Афанасию.
Когда Григорий стукнул дверями в сенях, Дуняшка, убиравшая со стола, быстро обернулась на звук, в серых глазах ее несмело блеснул радостный огонек, засветилась улыбка. Но едва увидела входившего, потушила эту улыбку, бросила растерянный и встревоженный взгляд на бабушку, сидевшую на кровати, словно ища защиты.
— Здравствуйте, — проговорил Григорий, перешагнув порог.
— Милости просим. Проходи, гостем будешь, — прошамкала старуха беззубым ртом, вглядываясь в пришедшего невидящими глазами. Потом повернулась к внучке: — Кто это, Дунюшка? Не могу узнать по голосу-то…
Девушка промолчала.
— Вижу — лучше в горло кость, чем такой гость, — хмуро усмехнулся Григорий.
Прошел, сел на некрашеную табуретку, спросил у старухи:
— Живешь еще? Я думал — померла уже…
— Это Гришка, что ли, Бородин?.. Помереть-то мне пора, да смерть никак не идет… Заплуталась где-то…
В сенях опять стукнула дверь.
В комнату вошла нищенка лет пятнадцати, грязная, оборванная. Робко прижалась к косяку, протянула тонким голоском, готовым каждое мгновение оборваться:
— Ради праздничка… подайте корочку…
Григорий Бородин пошарил в кармане, достал смятый рубль, бросил нищенке.
— На… Убирайся только…
Деньги упали на пол, к ногам девочки. Нищенка не поднимала их, только широко открытыми синими глазами испуганно смотрела на Григория.
— Ты чего? Бери, коль дают.
— Не… Мне бы кусочек хлебца… и ладно. А деньги не надо. Ведь спросят — где взяла столько? Украла, скажут…
Григорий встал, поднял деньги и протянул девочке. Та попятилась, замахала руками.
— Нет, нет… Нету хлебца — и ладно.
— Тьфу, — сплюнул Гришка, положил деньги себе в карман и сел на прежнее место.
Дуняшка, стоя у печки, молча и удивленно наблюдала и за незваным гостем, и за нищенкой. Потом достала из шкафа ломоть хлеба:
— На, возьми…
Худенькой, давно не мытой рукой нищенка схватила хлеб, тотчас спрятала его в свои лохмотья и хотела уйти, но старуха, тяжело поднимаясь с кровати, проговорила:
— Ты постой, доченька…
Перебираясь по стене, старуха подошла к совсем оробевшей нищенке, стала ощупывать восковыми, просвечивающими, казалось, насквозь руками ее голову, замотанную рваной тряпкой, худые плечи…
— Ты откуда, доченька? — спросила старуха.
— Так… — ответила негромко девочка, — хожу по деревням…
— Звать-то как?
— Аниской.
— Отца-матери, стало быть, нет?
— Нету… Мы приезжие были. Из-под Смоленска, — чуть осмелев, рассказывала Аниска.
— Однако… есть, поди, хочешь, доченька?
— Нет… Не сильно… Я вчера ела… Мы жили в деревне на той стороне озера. С отцом жили… Потом он потонул пьяный в озере, а мать еще дорогой померла, когда сюда ехали…
Григорий, сидя на табуретке, поглядывал то на старуху, то на девочку-нищенку, то на Дуняшку. Он положил сверток на колени, но не разворачивал, словно ожидая, когда его попросят это сделать.
— Сиротинушка ты моя, — жалостливо говорила старуха, поглаживая Аниску по голове. — Бездомная…
— Летом-то ничего. Зимой вот плохо. Иногда попрошусь к кому-нибудь ночевать. Пускают мало кто — боятся, что обокраду.. По субботам хорошо, — продолжала Аниска, — бани топят. Когда все вымоются — зайду и сплю. Тепло. И на другую ночь ничего, терпеть можно. А потом выстывает… А то еще во дворе можно, со скотиной. К овце прижмешься, она теплая, как печка. Только закрывают многие дворы-то на ночь… — Голос Аниски иногда прерывался, тогда она часто моргала, хмурила лоб, будто вспоминая, что еще рассказать этой ласковой слепой старухе.
— Врешь ты все, — сказал вдруг Григорий.
Аниска вздрогнула и замолчала, вытянув длинную худую шею в сторону Григория. Старуха тоже повернулась к нему:
— Кого обижаешь, варнак ты этакий? Грех бы вроде.
Григорий усмехнулся, поерзал на табуретке.
— Ничего… Отец Афанасий сейчас сказал: все грехи отпущу тебе…
Старуха пожевала ввалившимся ртом, сказала, обращаясь к Дуняшке:
— Собери-ка там чего на стол, покорми скиталицу… Да и помыть бы ее. Поди, грязная.
— Я сейчас… Воды вот, бабуся, нету. Я мигом сбегаю на озеро…
Дуняшка торопливо сорвалась с места. Когда пробегала мимо Григория, тот схватил ее за руку:
— Ведь я к тебе пришел. Поговорить бы… А ты бежишь…
— Пусти!
— Ну ладно, пущу, — покорно сказал Григорий, встал и вышел следом в сенцы.
Взяв в сенях ведра, Дуняшка сняла со стенки коромысло и повернулась. Григорий придержал ногой дверь, которую Дуняшка хотела открыть.
— Ну, чего ты? — негромко спросила девушка, отступив на шаг. — Хочешь, чтобы коромыслом огрела?