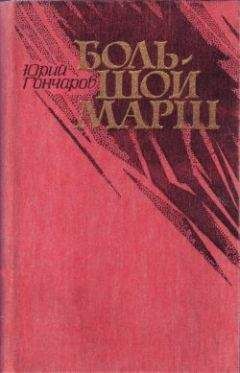Но Коровин их видел, они теснились вокруг него, лица эти были в его глазах днями и ночами, и он судорожно чернил картоны крошащимся углем, швырял на холсты краски с широких кистей, торопясь запечатлеть то, что было в его внутреннем зрении, рвалось наружу.
Ему долго не давался князь Дмитрий. Летопись о нем говорила: «Бяше крепок и мужествен, телом велик и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою, брадою ж и власы черен, взором же дивен зело…»
Забракованные наброски загромождали уже все углы мастерской. Коровин делал эскизы снова и снова – и отшвыривал в груду негодных. Нет, не Дмитрий!.. Без подписи не угадаешь, а нужно, чтобы его узнавали без пояснений, сразу, мгновенно, по облику, взгляду…
Однажды из окна своей студии Коровин увидел: во двор въехал экскаватор, стал копать какую-то траншею. Экскаватором управлял дюжий верзила с нахмуренным лицом, небритым, должно быть, вторую неделю. Экскаватор грохотал, послушный движениям его рук, лежащих на рычагах, сила машины казалась его собственной, ковш, загребавший сразу по кубометру земли, продолжением его рук. Казалось так потому, что в самом экскаваторщике было немало силенки: плечи распирали телогрейку, ручищи были могучи и велики и так широки измазанные черным машинным маслом ладони, что, мнилось, он и ладонями мог бы поднять столько земли, сколько поднимал ее зубастый стальной ковш.
Коровин сбежал во двор, замахал экскаваторщику руками, призывая его остановиться, убавить грохот мотора.
– Слушай, друг, очень прошу – поднимись ко мне в мастерскую, всего пять минут. Я только посмотрю на тебя в шлеме и латах!
Экскаваторщик округлил глаза, ткнул себя пальцем в висок:
– Ты, дядя, случаем – не того?
– Я художник, – заторопился объяснить Коровин, сообразив, насколько дика для мастера его просьба. – Мне это нужно для работы. Понимаешь – для работы!
Года на два он полностью отодвинул от себя исполнение заказов, даже самых выгодных, не горюя, что сберкнижка тощает, не думая, оправдается ли его неистовый, поглотивший все его время труд, окупится ли, хотя бы частично, трата материалов. Это его решительно не интересовало и не заботило, ему нужно было только одно: высказаться. Выплеснуть из себя то, что его переполняло, заставляло вскакивать среди ночи, зажигать свет, хвататься за бумагу, карандаши, уголь. Иначе – не закрыть глаз, не успокоиться, не заснуть…
Потом он стал делать и заказное, без денег не проживешь, но все равно главным для него были свои холсты, картоны, которых наросло уже много, на несколько выставочных залов. Он не стремился к тому, чтобы в них была связь, одна общая линия, тем более – последовательность, но это возникало само, не могло не явиться, потому что им двигали четкая мысль, ясно понимаемые им чувства.
Однажды в Москве он показал фоторепродукции со своих работ, разложил их на большом столе. Вот Дмитрий, великий князь московский, отроком, вот уже возмужавший юноша, вот в год похода на татар, вот он в доспехах рядового ратника на Куликовом поле, в ряду с другими бойцами… Вот Сергий, преподобный игумен Троицкого монастыря, жизнь положивший на то, чтобы вдохнуть в московских князей мужество и решимость подняться на поработителей, своей рукой окропивший меч Дмитрия, благословляя его на битву. Вот легендарный Пересвет, сразивший татарского богатыря Челубея и сам погибший от удара его копья, вот Ослябя… Вот воеводы, предводители полков… Вот друг Дмитрия и любимец его Михаил Бренко; перед началом битвы он надел латы и шлем великого князя и стал под его знамя, чтоб отвлечь татар от самого Дмитрия, и гордо и бесстрашно стоял в самом кипении сечи, пока десятки стрел не пронзили его насквозь…
А вот, – стал раскладывать Коровин новые фотографии, – простые воины, ратники, бойцы Коломенского, Владимирского, Костромского, Переславльского, Звенигородского, Дмитровского полков, безвестные русские люди, ремесленники, оратаи, оставившие дома в зыбках детей, любимых жен, которым быть неутешными вдовами… Лица, какие и сейчас встретишь. Но – как суровы они, как суровы глаза… Не праздник ждет, не веселье…
А вот эти эскизы – само поле. Нет, не тогдашнее, теперешний его вид. Высокая трава, сухой колючий репейник, который в народе чаще зовется татарником, в память, должно быть, о пережитом лихе, таком же цепком, упорном, жестококолючем. Пунцовые головки его цветов. Как кровь, – все еще та кровь…
В центре Коровин положил репродукцию с главного полотна, грандиозного по размерам: шесть на четыре метра, такие он еще не писал. Оно еще не кончено, вот эта часть набросана совсем эскизно, не проработана, здесь тоже – еще писать и писать. Но, в общем, композиция уже сложилась, взглянуть можно. Панорама десятиверстного поля. Мешанина конских голов и крупов, копий и мечей, ватных халатов и железных кольчуг, русских шеломов и татарских островерхих шапок из бараньего меха, собачьих малахаев, один тесный, спутанный клубок ярости и боли, живых и мертвых, – как это и было в тот день, переломный в истории России день, восьмого сентября…
Когда он начал раскладывать фотографии – это было в большом многолюдном учреждении в разгар рабочего дня, – вокруг шла деловая суета, кто-то разговаривал по телефону, входили и выходили сотрудники, печатала машинистка. А когда кончил – все стояли у стола, смотрели и в комнате была тишина.
– Готовая выставка! – сказали Коровину. – Привозите, дадим помещение.
– Надо докончить главную картину…
– Да ведь она уже есть! Отлично смотрится. Иногда дописать – только ухудшить.
Через месяц он привез картины. С помещением вышла накладка: то, которое обещали, еще не освободилось, Коровину предложили одну из отреставрированных церквей в Зарядье, около гостиницы «Россия», используемых под разные экспозиции.
– К сожалению, так складывается – только на десять дней. Должна быть выставка старинных самоваров.
Коровин безмерно огорчился, расстроился. Десять дней! Да выставку просто никто не успеет посмотреть за такой короткий срок! Окошки в церкви – маленькие, внутри даже в солнечные дни полумрак. Значит – при электричестве, а для живописи – это гроб! Помещение совсем не выставочное, неудобной формы: тесные, узкие простенки, закоулки, толстые квадратные колонны, поддерживающие низкие кирпичные своды. Демонстрировать самовары еще можно, но картины… Как их тут развесить? Да и не поместится все, надо ломать выставочную композицию, которую он уже наметил, тщательно обдумал.
И только чтоб не уезжать обратно, стал размещать холсты. Рабочих не было, делал все сам. Ему дали тяжеленную связку ключей, он приходил рано утром, отпирал замки семнадцатого века, отворял скрипучие двери, окованные таким же древним железом, выделанным вручную на наковальнях московских кузнецов.
И когда заполнил своими картинами стены, увидел – именно здесь их и надо смотреть. Соседство со старыми кирпичами, белым тесаным камнем, узкими окошками в решетках, низенькими сводами дало картинам что-то дополнительное, совершенную убедительность, достоверность. Они казались не работой современного художника, а пришедшими оттуда, из глубины столетий, вместе с каменными плитами, что звонко звучали под ногами, массивными замками и решетками, древними светильниками, висевшими и центре сводов на цепях; в них горели двухсотваттные электрические лампочки, но сами люстры, делавшиеся под свечи, цепи – были настоящие, пережившие века, на них местами даже сохранились воск, жирная свечная копоть.
Выставка продлилась больше месяца. Повалил народ. Самовары пришлось выставлять в другом месте. Приходили и приезжали экскурсии, даже из Подмосковья. Каждый день поступали заявки на встречи, беседы с художником. И примечательно, на это Коровин совсем не рассчитывал, было много молодежи, причем даже такой, что сторонится всего серьезного, ценит одни только развлечения. Эти парни и девушки приходили всегда компаниями, в джинсах, ярких спортивных куртках, с сумками через плечо, в которых —ракетки, транзисторы, пачки импортных сигарет, а снаружи – латинские буквы фирм, улыбающиеся кинозвезды. Вваливались с говором, шумом, будто пришли в спортзал или в привычный для себя музыкальный клуб, и быстро смолкали, без напоминаний о порядке и тишине, – то, что было на стенах, покоряло и их, переводило совсем в другое настроение.
Коровину было любопытно откуда-нибудь издали, из уголка, наблюдать за такой категорией зрителей, их реакцией, разгадывать происходившие в них перемены. Отчего они так почтительно смолкали и серьезнели и потом выходили с совсем другими лицами, чем пришли? Что они видели здесь для себя, поклонники поп-музыки, лишь с пятого на десятое перелиставшие когда-то для экзаменов Тургенева, Чехова, Толстого, но зато назубок знающие названия всех модных отечественных и зарубежных джазовых, вокально-инструментальных ансамблей? Пожалуй, рядом с картинами следовало бы поставить скрытую кинокамеру, ибо нигде лучше нельзя было бы снять, как молодые парни и девушки лицом к лицу встречаются со своей Родиной и многие из них впервые для себя открывают, что они тоже русские, – то, что они забыли, не помнят, а может быть, и не знали по-настоящему никогда…