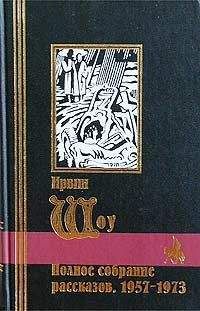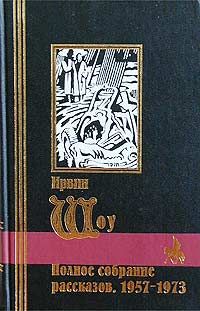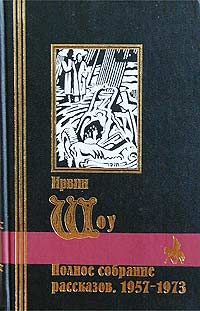— Ради Христа! Я-то думал, ты хочешь стать моим другом. Сегодня утром ты продемонстрировал мне дружеский, прочувствованный до конца жест. В этой калифорнийской пустыне — Гоби Лос-Анджелеса, Камарге культуры, — протянул мне руку, предложил сосуд с водой.
— Я в самом деле хочу стать твоим другом, само собой. Но все же есть определенные границы…
— У слова «друг» нет никаких границ! — хрипло возразил Крейн и полил пивом жареную картошку, уже политую кетчупом. — Знаешь, я изобрел нечто возбуждающе — для вкуса. Позволь, я кое-что расскажу тебе, Денникот. Дружба — это безграничное общение. Спроси у меня что-нибудь — и я отвечу. Чем основательнее дело, тем полнее ответ. Ну, а какое у тебя представление о дружбе? Правда только о пустяках, тривиальных вещах, а об остальном молчок? Лишь лицемерие, и все? Боже, тебе бы воспринять хоть малость от моего брата. Хочешь знать, почему я называю имя Китса и сразу за ним, не переводя дыхания, имя брата? — В голосе его звучал явный вызов, он еще больше ссутулился над столом. — Потому что он обладал чувством внутренней чистоты.
Крейн задумчиво скосил глаза на Стива.
— У тебя это тоже есть. Потому я и сказал себе, что ты единственный из всего нашего курса, кто задал мне вопрос — зачем я это сделал. — Он помолчал. — Да, у тебя тоже. Душевный подъем. Я могу судить — слышал, как ты смеешься, видел, как спускаешься с крыльца библиотеки, поддерживая под локоток свою девушку.
Опять умолк, подумал и продолжал искренне:
— Я тоже способен на душевный подъем, но приберегаю его для другого. — На лице его появилась таинственная гримаса, вызванная каким-то внутренним позывом. — Но вот в отношении чистоты… право, не знаю. Может, и тебе тоже об этом ничего не известно… Присяжные совещаются… Но я-то хорошо знал брата. Не хочешь узнать, что я имею в виду, говоря о внутренней чистоте?
Ему необходимо выговорится, это ясно, — молчание сделало бы память чем-то невыносимым.
— Это означает обладать каким-то набором личных нравственных стандартов и никогда их не нарушать. Даже если от этого больно, никто ничего не знает, это всего-навсего крошечный формальный жест, о нем девяносто девять процентов из ста и не думают.
Крейн, вскинув голову, с удовольствием прислушивался к своему любимому «Даунтауну», хотя говорить приходилось громко, напрягая голос, чтобы перекричать автомат.
— Знаешь, почему моего брата не выбрали капитаном футбольной команды? Его кандидатура выдвигалась, все уже было заранее оговорено — вполне логический выбор; все ожидали, что так оно и будет. Скажу тебе, почему его все-таки не выбрали: в конце сезона он отказался пожать руку капитану команды прошлого года, а у того немало голосов и он, конечно, повлиял бы на исход выборов. А пожать ему руку мой брат отказался потому, что считал этого парня трусом. Капитан, а идет только на схватку вверху; схваток внизу, на земле, куда более опасных, избегает. Не идет и на блокировку, если столкновения отличаются особой резкостью и грубостью.
Может, больше никто из команды этого не замечал, кроме моего брата, а может, они еще сомневались и он этим пользовался к своей выгоде. Но мой брат все отлично понимал. Потому не пожал ему руки — не в его привычках пожимать руку трусам, — и в результате капитаном выбрали другого игрока. Вот что я имею в виду под нравственной чистотой.
Крейн потягивал из кружки пиво, глядя на пустынный пляж и океан. Впервые, кажется, Стиву пришла в голову такая мысль: в общем, неплохо, что он не был знаком с братом Крейна — не пришлось разбирать его прямолинейное поведение, под стать генералу Кромвелю.
— Что касается девушек, этой «родины компромиссов», то они не для моего брата. Знаешь, как он поступил со своей первой девушкой? А ведь думал, в то время, что влюблен в нее, но это не имело никакого значения. Они занимались любовью только в темноте — на этом всегда настаивала она. Ну, так порой ведут себя девушки, ты знаешь. Темнота, как известно, прощает все. Мой брат в самом деле сходил по ней с ума и ничего не имел против темноты, если ей так хотелось. Но однажды, когда она сидела на кровати и внезапный порыв ветра отогнал от окна шторы, при ярком лунном свете он увидал: у нее большой отвисший живот… И вообще вся фигура какая-то рыхлая, — видно, потакала всем своим желаниям. Само собой, когда она лежала, живот втягивался и его практически не было видно, а когда одевалась, носила бандаж — в него можно запихнуть бочку с пивом. И вот, когда он увидел ее безобразную фигуру на фоне трепещущих на ветру штор, то сказал себе: «Все, это в последний раз! Такие развлечения не для меня». И все только потому, что у нее не было совершенных женских форм, а на меньшее он не соглашался. Любовь, желание — все равно. У него самого тело микеланджелевского Давида; он знал об этом, гордился постоянно за собой следил, за своей фигурой, — зачем же ему довольствоваться тем, что несовершенно? Почему ты смеешься, Денникот?
— Да нет, — Стив попытался прикрыть рот, — собственно говоря, я не смеялся, просто улыбнулся.
Рассказ Крейна показался ему любопытным, но он не мог избавиться от мысли, что Крейн, судя по всему, любил брата в силу не тех причин, — вероятно, заблуждался насчет него. Жаль, между прочим незнакомую девушку, брошенную, оставленную в одиночестве в темной комнате беспощадным атлетом: только что занимался с ней любовью, и она ничего не понимала — почему это он сбежал?
— Ну что, продолжать мне рассказывать о брате? — засомневался Крейн.
— Само собой! Вот я умер бы — и каким предстал бы мой образ на следующий после похорон день?..
— Во всем виноваты эти отвратительные спичи, которые каждый норовит произнести, — прошептал Крейн. — Если не проявить осторожности — напрочь испоганят образ навсегда отнимут его у тебя. — снял очки, протер толстые линзы; руки у него тряслись. — Ах, эти проклятые руки!
Водрузил очки на нос, положил руки на стол и крепко прижал их к крышке, чтобы унять дрожь.
— Ну, а что ты скажешь о себе, Денникот? Совершил ты когда-нибудь в своей жизни бесполезный, вредный, даже пагубный для себя поступок, отстаивая что-то нравственно чистое, бескомпромиссное, и если бы ты поступил иначе, то до конца жизни помнил бы это и стыдился?
Стив колебался не зная что ответить. Не имея привычки к самоанализу, он считал, что только тщеславным людям нравится рассуждать о своих добродетелях. Но Крейн ждет ответа — он ведь открылся перед ним, обнажил душу…
— Ну… да, — наконец выговорил Стив.
— А что произошло?
— По сути дела, ничего грандиозного…
Стив еще более смутился; но чувствовал, что Крейну необходимы его признания, — обмен интимными подробностями поможет вынести груз скорби. Да и сам он заинтересован рассказом Крейна, крайностью его взглядов, почти комичным потоком воспоминаний о брате. Его поразило, какую важность придает он самому незначительному, легкому жесту, как выискивает смысл в самых тривиальных вещах, — и это придает особое достоинство анализу любой мелочи.
— Однажды на пляже в Санта-Монике, — начал Стив свою повесть, — меня избили, и я знал, что это обязательно случится…
— Очень хорошо! — ободряюще кивнул Крейн. — Многообещающее начало…
— Ах, черт подери, все это пустяк, ерунда!
— В нашей жизни пустяков не бывает. Давай дальше.
— Был там один верзила, — постоянно ошивался на пляже и ко всем приставал. Обычный идиот, таких порождает злоупотребление физической культурой, — круглые мышцы на руках, размером с баскетбольный мяч.
Однажды я посмеялся над ним в присутствии девушек, и он сказал, что я нанес ему оскорбление и, если не принесу извинения, мне придется с ним драться. Я, конечно, был не прав, но наглел, чувствуя свое интеллектуальное превосходство, хотя и понимал это. Знал: даже если пойду на извинения, это его не спасет — девушки все равно будут смеяться над ним. И я заявил: «Никаких извинений!» Пришлось драться с ним там, прямо на пляже. С дюжину раз он отправлял меня в нокаут и вообще чуть не отправил меня на тот свет.
— Отлично! — снова одобрительно кивнул Крейн. — Замечательно!
— Потом… была одна девушка, которую я очень хотел… — Стив осекся.
— Ну и что?
— Ничего. Пока я еще этого для себя не выяснил.
До сих пор он был уверен, что этот эпизод с девушкой только подчеркивает его честность: вел себя, как сказала бы мать, как истинный джентльмен. Но не уверен, что его мать и мать Крейна нашли бы общий язык… Крейн постоянно приводит его в смущение.
— Как-нибудь в другой раз, — отговорился он.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Ты меня не разочаруешь?
— Нет; думаю, что нет.
— О'кей! Пошли отсюда.
Счет оплатили пополам.
— Заходите еще, ребятки! — пригласила официантка. — снова поставлю для вас пластинку. — И засмеялась, а большие ее груди затряслись.