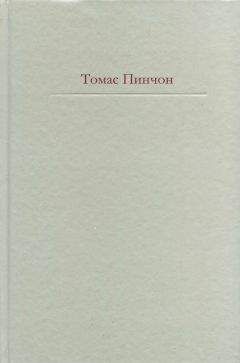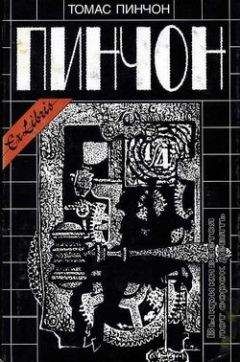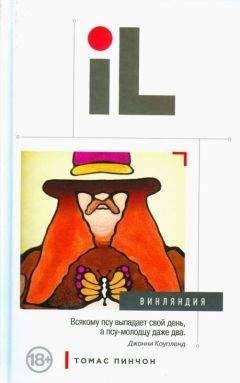Назавтра к полудню они вступают в медленно увядающий город — один-одинешенек на балтийском побережье, он гибнет в отсутствие детей. Вывеска на городских воротах перегоревшими лампочками и пустыми патронами гласит: ZWÖLFKINDER. Огромное колесо, властвующее над горизонтом на много миль вокруг, чуть покосилось, непреклонная старая гувернантка, и солнце высвечивает длинные потеки ржави, небо бледное в железном ажуре, что никнет долгой гнутой тенью на песок и в черносливное море. В без-дверных залах и домах носится ветер, устраивает кошачьи концерты.
— Фрида. — Из синей тени за стеной зовет голос. Похрюкивая, улыбаясь, свинья фордыбачит, дескать, глянь, кого я домой привела. Вскоре на солнце выступает худой веснушчатый мужчина, светлый, почти лысый. Нервно глянув на Ленитропа, нагибается почесать Фриду меж ушей. — Я Пёклер. Спасибо, что привели ее.
— Нет-нет — это она меня привела.
— Да.
Пёклер живет в подвале ратуши. У него на плите, растопленной плавником, греется кофе.
— В шахматы играете?
Фрида лезет под руку со своими советами. Ленитроп, в игре склонный руководствоваться скорее суеверием, нежели стратегией, одержим защитой двух своих скакунов, Шпрингера и Шпрингера, — он не против потерять все остальное, думает не более чем на ход-другой вперед, если вообще думает, чередует долгие летаргические колебания всплесками идиотской суматохи, и тогда Пёклер хмурится — но не от беспокойства. Примерно когда Ленитроп теряет королеву:
— Слы-ышь, погодите-ка, вы сказали — Пёклер?
Хлобысть мужик выхватывает «люгер» размером с дом — ты гля, проворный какой, — и дуло смотрит прямо Ленитропу в башку. Какой-то миг тот в своем свинячьем костюме думает, будто Пёклер думает, будто он, Ленитроп, валял дурака со Свиньей Фридой, и теперь у нас тут будет свадьба под дулом пистолета, «люгера» в данном случае, — на самом деле, фраза тебе вручаю я свое корыто только взбрела ему в голову, когда он сознает, что в действительности Пёклер говорит нечто иное:
— Вам лучше уйти. Все равно еще два хода — и я бы вас взял.
— Давайте я вам хоть о себе расскажу, — выбалтывает как можно быстрее цюрихскую информацию касаемо Пёклера, русско-американско-герерский поиск «Шварцгерэта», а тем временем, как бы в параллель, соображает: что, если оберст Энциан был не прав насчет обтуземливания в Зоне, — и мысли разные на ум взбредают, идефиксики и слегка, э-э, эротичненькие представленьица по части Судьбы, нет, Ленитроп? э? прочерчивает назад маршрут, которым его привела свинья Фрида, припоминает развилки, где могли бы свернуть в другую сторону…
— «Шварцгерэт». — Пёклер качает головой. — Я не знаю, что это было. Не до такой степени интересовался. Так вы только за ним охотитесь?
Ленитроп раздумывает. Их кофейные чашки напитались заоконным солнцем и отбрасывают его на потолок — прыгучие эллипсы голубого света.
— Не знаю. Разве что вот эта моя личная связка с «Имиколексом G»…
— Это ароматический полиимид, — Пёклер снова засовывает пистолет под рубашку.
— Расскажите, — грит Ленитроп.
Ну, не раньше, чем расскажет о своей Ильзе и ее ежелетних возвращениях — Ленитропу хватает, его снова берут за шиворот и тычут носом в мертвую плоть Бьянки… Ильзе, порожденная серебряным и пассивным образом Греты Эрдман, Бьянка, зачатая на съемках той самой сцены, что была на уме у Пёклера, когда он выкачивал из себя фатальный заряд спермы, — как могли они оказаться не одним и тем же ребенком?
Она по-прежнему с вами, хотя нынче ее труднее увидать, почти незрима, как стакан серого лимонада в сумеречной комнате… но все равно она здесь, невозмутимо-холодная, и кислотная, и сладкая, дожидается, чтобы проглотили, дабы коснуться глубочайших ваших клеток, забурлить среди грустнейших ваших грез.
Пёклеру все ж удается немного рассказать о Ласло Ябопе, но его то и дело сносит на разговоры о кино — немецком кино, о котором Ленитроп и не слыхал никогда, не говоря уж о том, чтобы смотреть… нда, тут у нас фанатичный кинозритель, что и говорить…
— В День Д, — признается он, — когда я услышал, как по радио генерал Эйзенхауэр объявил о вторжении в Нормандию, я подумал, что на самом деле это Кларк Гейбл, замечали когда-нибудь? голоса идентичны…
В последнюю треть жизни на Ласло Ябопа напала — так, по крайней мере, казалось тем, кто из деревянных лекториев наблюдал, как медленно гранулируются его веки, как по лику его расползаются пятна и морщины, разлагая его старостью, — враждебность, на странный манер яичная ненависть к ковалентной связи. Убежденность, что связь эту нужно усовершенствовать, дабы у синтетики появилось будущее, — некоторые студенты даже понимали, что ее надо «превзойти». Неким космическим унижением полагал Ябоп, что в сердцевине жизни, его жизни должно залегать нечто столь подверженное мутациям, столь мягкое, как дележка электронами между атомами углерода. Дележка? Насколько же крепче, насколько долговечнее ионная связь, где электронами не делятся, их захватывают. Пленяют! и удерживают! Эти атомы — поляризованные плюс и минус, никаких двусмысленностей… как же полюбил он эту ясность: как она стабильна, какое минеральное упорство!
— Сколько бы на словах мы ни признавали Разум, — говорил он классу Пёклера в Политехе, — умеренность и компромисс, всегда остается лев. Лев в каждом из вас. Он либо приручен — избытком математики, деталями замысла, корпоративными процедурами, — либо остается дик, вечный хищник… Лев не сознает тонкостей и половинчатых решений. Он не признает дележку как основу всего! Он берет, он удерживает! Он не большевик и не еврей. Об относительности лев слова не скажет. Ему подавай абсолют. Жизнь и смерть. Победу и проигрыш. Не перемирия или комбинации, но радость прыжка, рев, кровь.
Если это национал-социалистическая химия, виной тому что-то-в-воздухе, Zeitgeist[336]. Валяй, вали все на него. У проф. — д-ра Ябопа не было иммунитета. И у его студента Пёклера не было. Но через посредство Инфляции и Депрессии Пёклерово представление о «льве» обрело человеческое лицо — киношное лицо, натюрлих, а именно — Рудольфа Кляйн-Рогге, коему Пёклер истово поклонялся и на коего желал походить.
Кляйн-Рогге утаскивал смазливых актрис на крыши, когда Кинг-Конг еще сосал титьку и не располагал никакими достойными упоминания моторными навыками. Ну, по крайней мере одну смазливую актрису — Бригитту Хельм в «Метрополисе». Превосходное кино. Именно такой мир, о котором в те дни грезил Пёклер — да и, очевидно, не он один, — Корпоративный Город-государство, где источник силы — техника, где инженер тесно сотрудничал с управленцем, массы незримо трудились глубоко под землей, а предельная власть сосредоточивалась в руках единственного вождя на самом верху, отечески благосклонного и справедливого, он носил великолепные костюмы, и как его звали, Пёклер не помнил, поскольку слишком увлекся Кляйн-Рогге, игравшим безумного изобретателя, которым и Пёклер, и его соученики по классу Ябопа так тщились стать, — незаменимым для тех, кто правил Метрополисом, однако в итоге — неукротимым львом, который все может раскурочить: девушку, Государство, массы, себя, утвердив свою реальность против них всех в последнем ревущем пике с крыши на мостовую…
Любопытное могущество. Что бы ни вычленяли подлинные провидцы из трудной тесситуры тех дней и городских улиц, что бы ни видела Кэте Кольвиц такого, отчего ее жилистая Смерть нисходила вздрючивать сзади Своих женщин и отчего они это действо так любили, — время от времени, должно быть, оно трогало и Пёклера в его вылазках в Mare Nocturnum[337], все глубже и глубже. Он обретал восторг едва ли не сродни тому, что охватывает, когда опасная бритва проходится по коже и нервам, от скальпа до подошв в ритуальном покорстве Хозяину этого ночного пространства и его самого, мужскому воплощению technologique, что принимала власть не только из-за общественного ее примененья, но именно из-за этих шансов сдаться, лично и тёмно покориться Пустоте, восхитительному и вопящему коллапсу… Гунну Аттиле, вообще говоря, налетевшему на запад из степей, дабы разнести драгоценную конструкцию волшебства и инцеста, что сплачивала королевство бургундов. Пёклер в тот вечер устал — весь день бродил, собирал уголь. То и дело засыпал, просыпался и видел образы, в которых с полминуты не мог распознать никакого смысла — крупный план лица? лесная чаща? драконья чешуя? батальная сцена? Часто все разрешалось Рудольфом Кляйн-Рогге, древним восточным танатоманьяком Аттилой, голова выбрита вся за исключением пучка волос на макушке, увешан бусами, неистовствует и напыщенно жестикулирует, и эти неимоверные промозглые глаза… Пёклер снова задремывал под взрывы разрушительной красоты, над которыми трудились его сны, вместо всех немых ртов извергая варварскую гортанную речь, раскатывая бургундов в эдакую кротость, серятину неких толп в пивных залах стародавнего Политеха… и просыпался сызнова — все это длилось много часов — и видел дальнейшее развитие кровавой бойни, пожара и разоренья…