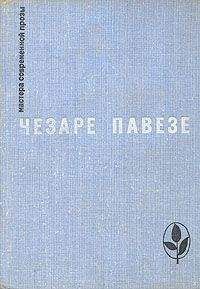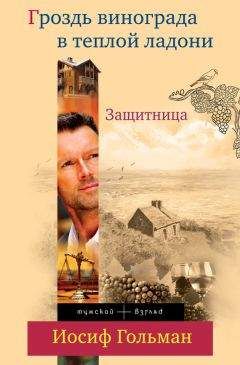Пьян я был до самого вечера; так, пьяный, и волов напоил, сменил им подстилку, сена подбросил. На дороге снова стали появляться люди; стоя за изгородью, я расспрашивал, какой приз был привязан к столбу, был ли и впрямь бег в мешках, кто победил. Люди охотно останавливались – никто со мной прежде не вел таких долгих разговоров. Теперь я и самому себе казался другим и даже жалел, что не поговорил с теми двумя офицерами, не спросил, что им нужно от наших девушек, не узнал, считают ли они их такими, как тех женщин в Канелли.
К тому времени, когда Мора наполнилась народом, я уже знал о празднике столько, что мог поговорить о нем с Чирино, с Эмилией, с кем угодно, словно я и сам там побывал. А за ужином я снова выпил. Большая коляска воротилась поздней ночью, я давно уже спал, и мне снилось, будто я карабкаюсь вверх по голой спине Сильвии, словно по столбу с призом. Я услышал, как Чирино поднялся и пошел отпирать ворота, услышал голоса, хлопанье дверей, тяжелое дыхание коня. Я повернулся на другой бок и подумал; как хорошо, что теперь все на месте. Завтра проснемся, выйдем во двор, и я еще долго буду всех расспрашивать, буду слушать разговоры о празднике.
Прошлые времена хороши были уж тем, что все совершалось в свой черед и у каждого времени года были свои обычаи, свои радости. Все зависело от работ на полях, от урожая, от того, дождь на дворе или солнце. Осенью мы возвращались па кухню в деревянных башмаках с прилипшими комьями грязи; походишь с рассвета за плугом, а к вечеру спина гудит и руки в ссадинах. Но вот со вспашкой покончено, тут и до снега недолго. И настает сплошное воскресенье – мы часами жуем жареные каштаны, ходим на посиделки, болтаем о всякой всячине, а работа – разве что в хлев иной раз приходится заглянуть. Помню последние дни зимних работ, помню «собачьи дни» – так называют в наших местах холодную январскую пору. Мы жгли на полях кучи черной, отсыревшей листвы и очистки кукурузы; их дым предвещал посиделки, веселые ночи, хорошую погоду.
Зима была лучшим временем моей дружбы с Нуто. Он стал уже совсем взрослым парнем. Он играл на кларнете: летом шатался повсюду, его взяли в оркестр на вокзале; только зимой он всегда был поблизости, и я с ним встречался у него дома, на Море, на дворах соседних усадеб. Он приходил в светлозеленой фуфайке, надвинув на лоб кепку велосипедиста, и рассказывал всякие истории; то где-то придумали машину, чтобы подсчитывать, сколько на дереве груш, то в Канелли объявились воры и ночью утащили будку общественной уборной, а вот один крестьянин из Калоссо, уходя из дому, надевал своим детям намордники, чтоб те не перекусали друг друга. Чего он только не знал! Что в Кассинаско живет человек, который, распродав виноград, раскладывает банкноты по сто лир на коврике из камыша, а по утрам просушивает их на солнце, чтобы не испортились. А другой чудак, из Кумини, у которого грыжа величиной с тыкву, решил, что это вымя выросло, и попросил жену его подоить. Или вот что приключилось с двумя обжорами: объелись козлятиной и на тебе – один потом скакал и блеял, а второй бодался, словно у него рога выросли. Нуто рассказывал о невестах, о расстроившихся свадьбах, о крестьянских домах, где в подвале находили покойника.
С осени по январь детишки играют в шарики, а взрослые в карты. Нуто знал все игры, но больше всего любил показывать фокусы, вытаскивать загаданную карту из колоды или находить ее у кролика за ухом. Он приходил утром, заставал меня на току, где я грелся на солнышке, ломал надвое сигарету, мы с ним закуривали, и он говорил:
– Пойдем взглянем, что там у вас на чердаке.
Мы забирались в башенку голубятни, что под самой крышей, поднимались туда по крутой лесенке и сидели согнувшись в три погибели. Там стоял старый сундук, валялись пришедшие в негодность рессоры, всяческое старье, пучки конского волоса; круглое оконце, глядевшее на холм Сальто, напоминало окошки нашего дома в Гаминелле. Нуто рылся в сундуке – в нем хранились истрепанные книги с пожелтевшими, точно покрытыми ржавчиной, страницами, тетради для записи расходов, порванные картинки. Он перебирал эти книги, стирал с них плесень, казалось, от одного прикосновения к ним стыли руки. Это все осталось от деда – отца дядюшки Маттео, который учился в Альбе. Были там и книги, написанные по-латыни, был молитвенник, книги про мавров, про диковинных зверей. Из них я узнал о слонах, о львах и о китах. Нуто отбирал себе книжку и тащил домой, запрятав под фуфайку.
– Здесь они,– говорил он,– все равно никому не нужны.
– Зачем они тебе? – спросил я как-то.– Ведь у вас и без того выписывают газету.
– То газета, а это – книги,– ответил он.– Читай сколько можешь. Не будешь читать – так и останешься нищим и темным.
Проходя по лестничной площадке, мы слышали игру Ирены; теплым солнечным утром она открывала застекленную дверь, и тогда музыка слышна была на веранде и под липами.
Меня поражало, как поет под ее белыми длинными тонкими пальцами эта большая черная штука, как она вдруг громыхает, да так, что стекла дрожат. Послушать Нуто – выходило, что играет она хорошо. Музыке ее с детских лет учили в Альбе. А вот Сильвия – та только и умела, что колотить по клавишам и петь фальшивым голосом. Сильвия была моложе сестры на год или па два, по лестнице они поднимались бегом, в тот год Сильвия каталась на велосипеде, и сын начальника станции поддерживал ее, когда она усаживалась в седло.
Стоило мне услышать пианино, и я принимался разглядывать свои руки. Ясно было, что от меня до господ и вообще до таких женщин дальше, чем до лупы. Да и теперь, хоть я уже двадцать лет не занимаюсь грубой работой и ставлю свою подпись под важными письмами, стоит мне взглянуть на свои руки, и сразу видно, что я так и не стал синьором, каждый догадается, что я работал мотыгой. Но теперь я знаю, что даже женщины этому значения не придают.
Нуто сказал Ирене, что она играет, как настоящая артистка, и он готов ее слушать с утра до вечера. Тогда Ирена позвала его на веранду (я тоже отправился с ним) и, открыв стеклянную дверь, играла самые трудные, по-настоящему красивые вещи; звуки наполняли весь дом и, должно быть, доносились до самого дальнего виноградника, выходившего на дорогу. Нуто слушал, выпятив губы, словно готов был вот-вот заиграть на кларнете, а я заглядывал в комнату, видел цветы, зеркала, прямую спину Ирены, ее напряженные руки, ее светлую головку, склонившуюся к нотам. Ну и нравилась же она мне, черт возьми!… И еще я видел перед собой холм, виноградники, берег. Да, это тебе не оркестр на ярмарке – эта музыка говорит о другом, она создана не для Гаминеллы, не для деревьев на берегу Бельбо, она не для нас. Вдали, по дороге из усадьбы Сальто в Капелли, краснел среди платанов замок Нидо. Вот для этого замка, для господ из Канелли музыка Ирены была в самый раз, им она подходила.
– Нет! – вдруг крикнул Нуто.– Ошибка!
Ирена быстро поправилась и продолжала играть, только, слегка покраснев, взглянула на него и засмеялась. Потом Нуто вошел в комнату, перевернул ноты, заспорил с ней, и снова Ирена стала играть. Я сидел на веранде и все глядел в сторону замка Нидо, в сторону Канелли.
Нет, не для меня и даже не для Нуто эти дочери дядюшки Маттео. Они богаты, они слишком стройны и красивы. Им водиться с офицерами, с господами, с землемерами, да и вообще с теми, кто постарше нас. Когда вечерами мы сидели с Эмилией, с Чирино, с Серафиной, кто-нибудь из них рассказывал, с кем теперь прогуливается Сильвия, кому шлет записочки Ирена, кто провожал их вчера вечером. И еще поговаривали, что мачеха не хочет выдавать их замуж, не хочет, чтоб они растащили имение по частям, пусть у ее Сантины приданого будет побольше.
– Ну да, попробуй удержать дома двух таких девушек,– отвечал управляющий.
Я помалкивал; летними вечерами, сидя на берегу Бельбо, я думал о Сильвии. О белокурой красавице Ирене и мечтать не смел. Однажды Ирена привела Сантину поиграть на песочке у реки. Никого там, кроме меня, не было, и я увидел, как Ирена с девочкой подбежали к воде и остановились у самого края. Я укрылся за кустом бузины. Сантина кричала, показывая что-то на том берегу. Тогда Ирена положила под куст книгу, нагнулась, сняла туфли и чулки. Приподняв юбку до колен, она ступила в воду своими белыми ногами, ее золотые волосы падали на плечи. Медленно и осторожно шагая, переходила она реку вброд. Потом крикнула Сантине, чтобы она сидела спокойно, а сама стала рвать кувшинки. Я все отлично помню, словно вчера это было.
Через несколько лет в Генуе, где я служил в солдатах, мне повстречалась девушка, похожая на Сильвию, смуглая, как она, только чуть полнее и похитрей. Ей было тогда столько же, сколько Сильвии и Ирене в тот год, когда я пришел на Мору. Я служил денщиком у полковника, который жил в маленьком домике у моря. Он взял меня к себе, чтоб ухаживать за садом. Я работал в саду, топил печи, подогревал воду для ванной, помогал на кухне. Тереза служила у него горничной и все дразнила меня за мой деревенский говор. А я и в денщики-то пошел, чтоб держаться подальше от сержантов, которые смеялись над каждым моим словом. Я глядел ей прямо в глаза – такая у меня была привычка,– глядел и молчал. А сам прислушивался к тому, что люди говорят, все больше помалкивал и что ни день чему-нибудь учился.