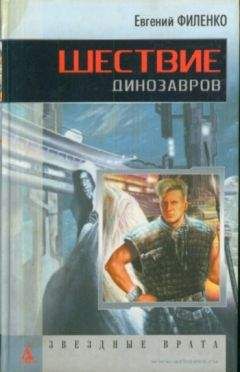— Я люблю такие, — сказала женщина. — Я не люблю давление вещей.
Анна хотела ответить, что еще не пришло время носить на себе мешки, парашюты и плащ-палатки, время сейчас другое — время Дживанши и Версаче, ей ли, портнихе, этого не знать, но не сказала. Смолчала. Зачем накалять атмосферу не по делу, надо еще разобраться, кто она, эта дура.
Через пять минут балахонистая уже плакала на груди у Астры-Анны. Та сразу вспомнила девочку с неукротимыми кудрями, которые они с Лилькой выпрямляли при помощи прищепок.
— Боже!
— Боже!
Вошла Майка, хмыкнула. Несколько дней тому назад она категорически воспротивилась этой тетке из Киева (Знаем мы вас, знаем! Я ваша тетя, приехала из Киева. Я буду у вас жить!). Но в конце концов на порог пустила, долго рассматривала паспорт, в котором ничего, ну ничего не указывало на родственные связи. Майка считала, что упомнила бы, если б слышала раньше, имя — Мария Григорьевна, с перебором рычащих звуков. Она еще не забыла собственное выкарабкивание из детской картавости. Родственница, однако, оказалась вполне нормальной. Выяснилось и приятное: где-то есть и сестренка из Риги. Возникло странное ощущение: пустоту, оставленную матерью, стала бурно наполнять неведомая родня. Майка выросла в суровом климате родственных отношений: ни на чью грудь припадать было не принято. Даже матери. Ошибочка вышла с разводом. Но тут Лилия Ивановна сама вмешалась. Возникшая из ничего родня смущала Майку. Когда тетя из Киева шла ночью в туалет и Майка слышала щелчок выключателя, она сонно думала: «Сиротой быть лучше».
Потом число щелчков увеличилось — приехала еще и тетя Астра. Сыночек Дима заперся в комнате, какое счастье, что есть такая возможность, и выходил, только когда «старух не было», те же царапались к нему в дверь, каждая со своим киндер-сюрпризом, но упрямый мальчик дверь не отворял и молчал как убитый.
— У него нет момента аутизма? — спросила близкая к медицине тетя из Киева.
Майка шваркнула сковородкой по плите, а могла бы и поосторожней, как-никак — металлокерамика.
— Он просто засранец! — сказала она. — Имеет всех нас в виду.
Астра нежно вспомнила Жорика. Всегда выходил к людям и здоровался, не важно даже как. Но выходил. И факт — здоровался.
Мария тоже вспомнила Лайму, воспитанную девочку. Но, может, у нее это балтийское?
Скажи она это вслух, они бы с Астрой сцепились: та вся сейчас состояла из крови шинкаря и отца-еврея, и ей даже казалось, что ее ишемическая болезнь стала вести себя несколько иначе, поддавшись грамотному определению. В конце концов, внутренняя жизнь организма человека — это такая тайна…
Приложив ладони к тому месту, где под покровом тканей полагается быть сердцу, Астра-Анна думала об удивительном полете, который ей предстоит. Она видела под собой лужу записанного человеками Черного моря, плавно парила над незнаемым Средиземным, она оставляла за собой горы и поля и шептала ишемическому сердцу слово, которое слышала в ателье, когда по требованию молоденькой и прыщеватой заказчицы все завышала и завышала той подол. Уже хорошо и четко ей снизу виделись беленькие трусики и бедра хорошей лепки, от колена до паха — просто загляденье. Так вот, на какой-то ей одной известной высоте юбки прыщавенькая разрешила остановиться и сказала это слово: «Кайф!»
Теперь вот, мысленно пролетая над бросаемым отечеством, Астра произнесла именно это слово, и сердце отдалось высокой и пронзительной экстрасистолой.
О, чудность человеческих природ! Русской и еврейской. О, великий антагонизм кровей, одинаково закодированных создателем! О, великое учение, придуманное евреями и агрессивно захваченное русскими как свое, собственно рожденное.
Такая грязь у помоек, какая существует в еврейских религиозных дворах в славный праздник Песах (Пасхи), существует всегда в русских дворах, за исключением одного дня — праздника Пасхи.
Таинственные, перепутанные кровями и идеями чудики земли.
И смеющийся сверху Бог, который смеется над этими двумя, даря им все и все отнимая.
Астра смотала удочки. Не насовсем. На пока. Чтоб потом вернуться и забрать Николая Сергеевича. Ей и в голову не приходило, что переписка мужа с Таганрогом шла вовсю и ему уже было найдено место в семье хорошей вдовой женщины, тоже хранительницы какого-то музея. Эта женщина уже радостно ждала мужчину для оставшейся жизни и даже сходила к гинекологу на предмет что и как. У вдовицы все было в порядке. И тропа не заросла.
На что Николаю Сергеевичу было намекнуто в письме чеховской хранительницы. Он взволновался и выпил настойку пустырника. Астра как раз ходила ставить набойки на удобные немецкие туфли. Все-таки дорога, хотя и полет. Она хихикнула над этим, чувствуя в себе молодую траву радости.
Так и улетела в чиненой обуви, с ощущением парадоксальности понятия «удобная обувь для полета в небесах».
Уехала и Мария. Она и провожала Астру, и все домогалась, когда та вернется, чтоб ей приехать и встретить. Но Астра виляла, от ответа уходила, а новая родственница нервничала: вот-вот обрела сестер — и сразу потеряла. Одну так в прямом смысле, а другая просто вся дрожит от самолетного нетерпения.
В этот момент у Марии началось то, что когда-то уже было, — страсть собрать семью. Она еще не оформила это в конкретное желание, но снова прицепилась к Астре как репей: когда, мол, и когда? В смысле — вернешься…
Ей и в голову не могло вспрыгнуть, что клокочущее Астрино нутро просто сдерживало страстное «никогда! никогда!», хотя в голове этого еще не было. (Тут разница в ощущениях нутра и головы.) Сдерживалась же Астра по простой причине: в дорогу слова отрицания (в данном случае — «никогда») не говорятся. Нельзя на дорогу прощаться навсегда. Такая есть примета, а может, и не примета, а что-то более значительное, например, знание силы слова говоримого. Сказал — считай, что сделал, и это не шуточки, потому как по невидимым проволочкам побежал звук, завертелся спиралью — и пошло-поехало.
На Майку наступило одиночество, ощутимо так, будто босой ногой. То было столько пожилых теток, которые задевали мятыми турецкими юбками и пахли дешевым мылом. На всю жизнь оторопелые их глаза тайно высматривали в ней нечто им нужное почти до задыхания. Они ее тяготили, раздражали манерой часто пить соду, а еду заглатывать торопливо, не жуя, будто это последняя их пища. Исчезнувшая мама была такой же, вдруг подумалось Майке, просто она делала другой вид. Мол, я не такая.
Теперь вокруг нее никого. Только сын за постоянно запертой дверью, в которую ей нет ходу. «Не мешай, мама!» Майка куталась в пуховый платок, подаренный Астрой, никакой балконный ветер не мог выдуть из него запах нафталина, жареных семечек и каких-то примитивно стойких духов. Но уже через время она вдруг почувствовала: чужеродный, даже как бы неприятный дух вошел в нее и стал своим. С этого момента где-то в самом сущностном месте ее природы стала стремительно выпрямляться линия судьбы, о которой ни одна клеточка мозга не знала. Мозг не знал судьбы. Он был самодостаточен и в линии не верил.
17
Астру поселили в салоне, комнате главной, всеобщей и ничейной одновременно. С шести утра мимо нее начиналась странноватая мелодия другой жизни. Внуки влезали в футболки, снятые прямо с просушки. Жорик застил свет волосатыми ногами и плоскими жесткими коленями. На взгляд Астры, шорты начинались очень высоко, если смотреть на сына так, как смотрела она, — с лежачего положения. Невестка носила тигриные лосины, и Астра стыдилась ее не смыкающихся ног. Самое невероятное — ноги были предметом гордости невестки, именно такие — растущие как бы сбоку. Такие ноги имели одну задачу — они носили тело невестки, и Астра с силой вдавливала именно эту педаль: носите ее, ноженьки, носите! Дай ей Бог здоровья!
Внуки ее не замечали, они включали телевизор в полседьмого, когда она деликатно притворялась спящей. Они садились на пол и пукали в ее сторону. «Это замечательно! — думала Астра. — Они здоровенькие и веселые». Педаль любви, которую она держала на пределе, уже слегка проваливалась, но ведь она приехала любить! Она приехала любить навсегда. В ней бурлила кровь отца и змеился ручеек таинственного шинкаря. Она имела правильные документы. Она носила еврейское имя Анна. Она ждала, когда Жорик скажет: «Правда, у нас хорошо?» — «Да! Да! Да!» — закричит она. — «Ну так в чем же дело?» — скажет он так трогательно и по-детски потянет носом, а она ему строго попеняет: «Жорик! Сынок! Ты большой мальчик, а так и не научился пользоваться платком». — «Да ну тебя, мама! Свои же сопли в себя же и тяну».
Они сядут рядком и будут кумекать, как все оформить, чтоб и Николай Сергеевич потом приехал. Они не с пустыми руками явятся — они продадут все!
Так она мечтала. Не зная — слава Богу, и не узнав, — что Николай Сергеевич уже сидел под вишней у смотрительницы музея, не той, что сторожила Чехова, а у другой — намеченной ему на жизнь. Николаю Сергеевичу нравились и женщина, и вишня. Нравилась укорененность и той и другой именно в эту землю, без всяких выбрыков сняться с места и податься черт-те куда. Когда Николай Сергеевич думал об Астре применительно к ее фантазии эмигрировать, он начинал испытывать что-то нехорошее, недоброе, он становился обиженным и оскорбленным сразу.