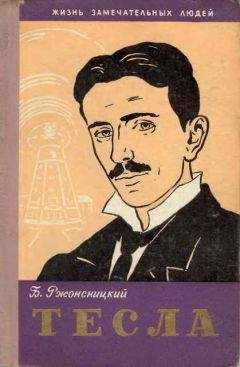Это исчезновение было бы оборотной стороной конспирации. Если всю жизнь существовать в тени, вряд ли из нее выйдешь после смерти.
Конечно, бывают исключения. К какой-нибудь дате вполне могли о нем вспомнить.
Его родную Монастырскую переименовали бы в Блинова. Возможно, нашлось бы для него место и в Питере.
В тридцатые в Ленинграде возник район террористов. Скопом почтили Желябова, Халтурина, Каляева и Перовскую.
Не будем продолжать дальше. Скажем только, что всего этого Коля избежал.
Еврейские мудрецы произнесли бы: “Куда человек сам желает идти, туда его и ведут”.
Теперь Блинов жил не для будущего, а ради настоящего. Сам удивлялся: да как он без этого обходился?
Ощущение было такое, словно он уезжал куда-то и наконец вернулся домой.
Разумеется, жена не нарадуется. Ведь муж склоняется не над железяками, а над тетрадями с лекциями.
Как-то на улице она встретила Каляева. Он кинулся к ней и долго тряс руку.
Лиза решила, что этот жест имеет отношение к Коле, а ей, как всегда, кое-что перепало.
Думать об этом не хотелось. Иван сейчас был так же далеко, как Колина мастерская.
Знаете такую игру: холодно… тепло… горячо… Вот так она двигалась из прошлого в сегодняшний день.
Сперва было что-то неприятно-холодное, а потом резко вскипало. Начиная бельем в тазу и кончая борщом в кастрюле.
Борщ или стирка – это, конечно, не соска, но тут тоже нужен пытливый ум. Не исключены открытия и нововведения.
Блинов во всем активно участвует. Вновь принадлежит пеленкам с подгузниками, а главное, им, Лизе и детям.
Немного смущала грустинка в глазах. Видно, одного счастья ему было недостаточно.
Вряд ли Коля горевал о бомбах и взрывах. Уж без них он как-нибудь переживет.
А вот каково без свершений? Или хотя бы без надежды на то, что случится что-то важное?
Один умный человек сказал, что есть люди с биографией, а есть люди без биографии.
Первые обходятся без событий, а вторые настолько в них нуждаются, что готовы сами осложнить себе жизнь.
Так их воспитал Роше. Учитель тоже тосковал без чего-то настоящего и всегда старался всколыхнуть и взбурлить.
Глава седьмая. Жизнетворчество
1.
Сколько раз так бывало. Коля решит, что все наладилось, а это, оказывается, отсрочка.
Вообще-то нам всем дана лишь отсрочка, но только сроки разные. Кому-то повезет, и он проживет лет до ста.
Не такой Блинов счастливчик. Как начнутся у него неприятности, то одна за другой.
Правда, поначалу все складывалось неплохо. Если не вдаваться в подробности, то просто замечательно.
По-другому и быть не могло: все же одно дело – обычная жизнь, а другое – жизнь в границах сцены.
Самая большая радость для студента – студенческий театр. Репетиции тут похожи не на работу или учебу, а на домашнее торжество.
Важнее всего не результат, а право побыть рядом друг с другом. Порадоваться тому, какие славные у тебя друзья.
Ну что с того, что пьесу выбрали мрачную. Для того они и вместе, чтобы эту мрачность преодолеть.
Зритель сразу почувствует: жизнь казалась бы несносной, если бы не островок тепла и взаимопонимания.
Пусть крохотное это пространство. Немногим больше того, что заселили Робинзон и Пятница.
Впрочем, вдвоем уже не скучно. Если же участников в десять раз больше, то тут только держись.
2.
Спектакля еще не существовало, а уже было ясно, что это настоящая бомба.
Может, более настоящая, чем те бомбы, которые в свободное от сцены время делал кое-кто из актеров.
Те были бездушные железяки, а эта из крови и нервов. Из того материала, из которого состоит все подлинное.
Никакая бомба не захочет быть вещью в себе. Лишь во время взрыва раскроется в полной мере.
Поэтому репетирующие чувствовали себя как в закрытой банке. Мысленно представляли сцену и зал.
Одно дело, если беседовать между собой, а другое – еще и с публикой. Постоянно чувствовать ее одобрение.
Пьеса, которую они выбрали, животрепещущая. В ней задаются такие вопросы, на которые каждому следует дать ответ.
Кстати, и название дерзкое. Чаще всего это слово обходят, а тут оно вынесено вперед.
Мелко – фамилия автора, а потом – крупно: “Евреи”. Как бы в подтверждение того, что тема тут важнее всего.
Перед входом увидел афишу и сразу начинает побаливать. Словно ответа от тебя ждут не когда-нибудь, а сейчас.
Слово “зритель” в данном случае не подходит. Правильней было бы сказать: “свидетель”.
Иногда смотреть не хочется, но отвернуться или пропустить совершенно невозможно.
Словно видишь сон. Как ни пытаешься от него отделаться, а он не отпускает.
Удивляет сходство с настоящими снами. Чуть не каждую ночь что-то такое является.
Так суждено этой публике. Днем они швейцарские граждане, а ночью жители местечек.
То одно вспомнится, то другое. Иногда представится такое, чего не было, но могло быть.
Ракурс, понятно, соответствующий. Откуда-то из-под стола или, напротив, с печи.
Это и есть точка зрения детства. Еще не настало время участвовать, но уже имеешь право знать обо всем.
3.
Вот появился часовщик Лейзер. Серебряная борода, густые брови, неторопливая речь.
Только среди евреев встречаются часовщики, как две капли воды похожие на пророков.
Впрочем, настоящие пророки тоже были евреями и совсем не сторонились прозы жизни.
Часы не ремонтировали, но овец пасли. Радовались тому, что имеют дело с бескрайними просторами.
Пастух поневоле начинает разговаривать с Богом. Ведь окружающий мир огромен, а ты в нем совершенно один.
Правда, взгляд Лейзера устремлен не вдаль, а вглубь. Туда, где уживаются колесики с молоточками.
Семену Акимовичу Раппопорту почти не нужно перевоплощаться. Он сам из породы пророков и патриархов.
Когда эсер Чернов впервые его увидел, то сразу подумал, что ему чего-то недостает.
Затем как осенило: конечно, большой серебряной бороды.
Что, казалось бы, это добавляет, но почему-то иначе не выходит повелевать человеческими массами.
4.
С массами как-то не вышло, но театральной студией Раппопорт управлял легко.
Потому и занялся режиссурой. Ведь это занятие предполагает ощущение своей миссии.
Можно сказать, указываешь путь. Испытываешь волнение от того, что направляешь движение жизни.
Говоришь: “Неверно” или, напротив, “Верно”. Устанавливаешь правила, по которым живут люди на сцене.
Только скрижалей недостает Семену Акимовичу, но вместо них у него есть режиссерский экземпляр.
Вообще режиссер – не совсем человек. Вернее, не такой человек, как остальные люди.
У нас с вами одна душа, а у него множество. Кем только за время репетиций ему не приходилось становиться.
Мысленно представляешь себя на месте каждого. То одним персонажем, то другим.
Ощущаешь ответственность буквально за все. Если потребуется, почувствуешь себя стулом или шкафом.
Да если бы только шкафом! Можешь показать кошке, как правильно переходить через сцену.
5.
Существует ли связь между перевоплощением и самопожертвованием? На этот вопрос надо ответить утвердительно.
К примеру, прожить год среди шахтеров – это самопожертвование и в то же время опыт существования в образе.
Как он решился на такое? Даже еврейское имя Шлойме сменил на Семена.
Уж не испытывал ли он себя? Проверял, сможет ли он забыть о происхождении и немного побыть русским?
Представьте себе, получилось. Очень скоро его было не отличить от товарищей-шахтеров.
Да и можно ли тут выделиться? Лица у всех закопченные, а из темноты ярко горят глаза.
Одно отличие, правда, есть. Иногда Раппопорт доставал блокнот и что-то в него записывал.
Если бы кто-то мельком заглянул в эти записи, то был бы без сомнения удивлен.
В русских буквах больше мягкого и округлого, а в еврейских – квадратного и острого.
Хотя этот язык для тебя чужой, все равно почувствуешь: не подходи, уколю!
6.
Сцена – это по большей части другие. Из этих других режиссер создает что-то свое.
Видно, еще потому Семен Акимович увлекся театром, что была в нем этакая жадность к жизни.
Не только всматривался, но и накапливал. На основании долгих наблюдений создавал своего рода архив действительности.
Все для него важно. И особенные, с привкусом гари, шахтерские словечки, и предметы еврейского быта.
Сложнее всего с этим бытом. Все же одно дело то, что говорят, а другое – то, из чего едят и пьют.
Раппопорт нашел выход. Прежде чем отправиться в экспедицию, купил фотоаппарат.
Теперь для всего хватало места. Люди и надгробия на его снимках помещались в полный рост.
Неудивительно, что тут участвует фотография. Когда быт исчезает, он превращается в тень.
Фотография – и есть тень. Не то чтобы несуществующее, но столь же невесомое, как слово.