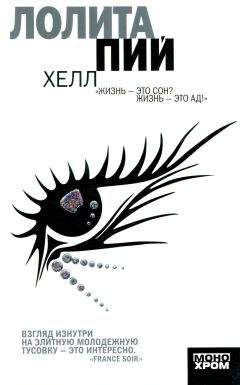На обложке была Наташа со своим последним старцем и подпись: «Наташа Кадышева: давать всегда, давать везде», — и чуть ниже огромными белыми буквами: «Роберт Дауни-младший: нет, я не под газом».
В самолете этой мерзавки уже не было, я помчался как полоумный в туннель и еще успел увидеть, как она исчезает в необъятных недрах аэропорта Кеннеди, но тут мне преградила дорогу иммиграционная служба.
Мы едем в «линкольне» вниз по Парк-авеню, и когда проезжаем перед особняком родителей Жюли, я отвожу глаза, и Манон говорит:
— Жюли, да?
И я шлю ее к черту, и она вздыхает, чуть глубже кутается в меха, и, уткнувшись лбом в стекло, глядит с надменным и отрешенным видом на струи дождя на темном окне.
— И нечего сидеть с надменным и отрешенным видом, — говорю, — ты же не позируешь для «Вог» на тему «Я, гламурная и отчаявшаяся, на Парк-авеню».
— Я не отчаялась, — отвечает она.
— Да неужели? — иронизирую я.
— Это ты отчаялся.
Она права, и в эту минуту мы подъезжаем к «Пьеру», и она первый раз в жизни не ноет, что это не «Мерсер», не ждет, чтобы кто-нибудь открыл ей дверцу, открывает ее сама и, выйдя из машины в струях белого пара, просто спешит в отель, а не расхаживает перед прохожими, мимоходом подзывает гарсона: «Осторожнее с чемоданчиком «Вюиттон», там моя косметика», — потом небрежно протягивает чаевые, и портье почтительно сторонится, пропуская ее, и я говорю себе, что неплохо поработал. Предупредив консьержа, чтобы никто не звонил мне в номер, особенно Пэрис Хилтон — «Если позвонит Пэрис, скажите, что мой вертолет разбился и я погиб», — я иду за Манон, отстав на несколько шагов и не спуская глаз с ее шпилек, тихо ступающих по ковру, а перед дверью подбираю ее меха, соскользнувшие с плеч.
— Гм, — говорю я, закрывая дверь, — соболя?
— Да.
— «Фенди»?
— «Ревийон».
— Есть хочешь?
— Я хочу спать.
— Ты хочешь спать? Еще нет восьми.
— Дерек?
— Да.
— Ты не обидишься, если сегодня поспишь в другой комнате?
Несколько минут я молчу, наверно от удивления, и уж точно не потому, что разочарован или задет, и не потому, что привычный облик моего нью-йоркского номера, номера, где я учился, трахался, плакал, где жил дольше, чем где бы то ни было, где мы жили с Жюли, вдруг стал чужим и враждебным, и не потому, что я вдруг перестал что-либо слышать — отголоски полицейских сирен, удаляющихся к северу, торопливые шаги тех, кто выходит из дома, или возвращается домой, или смеется, цоканье лошадей, уставших таскать влюбленных туристов, шум утомленных моторов, когда зажигается зеленый свет, — и не потому, что «Плаза» внезапно погасла, и Парк-авеню исчезла, и я заблудился в самый неожиданный момент в своем нью-йоркском номере, потому что Манон, которую я не люблю, которую никогда не любил, спросила, не обижусь ли я, если посплю сегодня в другой комнате, Дерек.
— Нет, — отвечаю я, — а с чего мне обижаться?
Она просто кивает и берет у меня из рук мех, подходит к шкафу и открывает его, с усилием, словно дверцы слишком тяжелы для нее, и тщательно развешивает пелерину. Потом идет в ванную, споткнувшись о брошенные черные сапоги, медленно спускает на пол платье и лифчик и входит в ванную, оставив дверь открытой, чтобы мне было видно, как она долго смотрится в зеркало, все с тем же надменным и отрешенным видом, не обращая внимания на мое отражение, потом садится на угол ванны и отстегивает чулки, поворачивает до упора горячий кран и, пока льется вода, накидывает пеньюар, идет обратно, просит у меня сигарету, я машинально даю ей прикурить, пытаясь поймать ее по-прежнему отсутствующий взгляд, и когда она подходит к окну и упирается лбом в стекло с таким видом, будто хочет разбить его и вылететь наружу, я встаю, не вполне понимая, что хочу сказать, и тут в дверь звонят, и Манон говорит мне только: «Займись багажом», — и отдает мне окурок, и я иду открывать, слыша, как закрывается дверь ванной и поворачивается ключ в замке.
В час пополудни в «Даунтаун Чиприани» слишком людно, я жду Станисласа уже добрых четверть часа и изо всех сил пытаюсь казаться невозмутимым: спросил у менеджера, как дела, как поживают его родители, друзья, дети, но у него нет детей, и он в итоге сажает меня, в полном одиночестве, сюда, за лучший столик, то есть за столик, который видно всем и отовсюду, и, в данном случае, всем видно меня, насупленного, осушающего один «беллини» за другим, раз уж нельзя курить одну сигарету за другой. Я уставился в одну точку, изображая глубочайшую сосредоточенность, но в конце концов хватаю за рукав официанта и прошу, с сильным французским акцентом, сообщить мне точный состав «беллини», а также его историю, потом сказывается легкое опьянение, и на тротуаре напротив я замечаю Курта Кобейна, он растянулся на шотландском пледе и просит милостыню, и сначала я думаю, что это галлюцинация, учитывая тот непреложный факт, что Курт Кобейн покинул этот мир уже скоро десять лет как, к тому же если и предположить, что он еще жив, то, принимая во внимание, какую гору бабла ему должны были принести роялти, он точно не стал бы попрошайничать на Западном Бродвее, и, снова поймав за рукав официанта и получив утвердительный ответ на вопрос: «Видите того типа, вон там, он действительно там, он есть, правда?» — я прихожу к выводу, что этот тип попросту что-то вроде двойника, и, успокоившись, разворачиваю «Уолл-стрит джорнал», но черные буковки на белом фоне плывут перед глазами, то ли это они слишком мелкие, то ли это я думаю о другом, и у меня возникает тревожное впечатление, что они абсолютно бессмысленны, и я впадаю в панику и в конце концов закуриваю, говоря себе, что меня все-таки не вышвырнут за дверь, но все головы как одна оборачиваются ко мне в ужасе и удушье, и тогда я делаю вид, что я не я, и съеживаюсь за своей каббалистической газетой, и тут слышу:
— Прости, задержали в офисе. Трафик — кошмар. Час пик. Rush hour. Такси не найдешь. Битых два часа торчал на Тайм-сквер. Водила-пакистанец в полном улете. Двойню родил. Как будто без них ему было мало… Слушай, что ты творишь с газетой?
— Гм, — говорю я, — читаю крайне интересную заметку относительно преступного изготовления атомной бомбы в Пхеньяне.
— Дерек, ты держишь газету вверх ногами.
— Ну да, конечно-конечно. Гимнастика для глаз, рекомендовано ведущими окулистами. Хочешь «беллини»?
— Фуу! — выдыхает он, плюхаясь на стул напротив. — Хочу, спасибо.
— Шеф, — зову я, — повторить!
— Рад тебя видеть, старик, — говорит Станислас.
— И я тебя, цыпочка, только обойдемся без излияний, а то у меня потечет грим, и люди того гляди подумают, что мы любовники.
— Ну, — спрашивает Станислас, — когда прилетел?
— Вчера вечером. Скажи, у меня глюки или тут в ресторане ни одной кинозвезды?
— Ни единой, успокойся, у тебя не глюки.
— И даже Роберт Де Ниро не примостился где-нибудь в углу? Или Гвинет? Брет Истон Эллис? И никто из сериала «Друзья»? Джеки Чан? Фифти Сент?
— Нет, почему же, вон там сидит Эмма Бантон, — сказал он.
— Кто такая Эмма Бантон?
— Одна из бывших «Спайс герлз».
— Не узнаю Нью-Йорк, — вздыхаю я.
— А когда ты приезжал последний раз?
— Три недели назад, — опять вздыхаю я.
— Кончай вздыхать.
— Прошу прощения.
— Ну и что это за слияние с Texaco? — спрашивает Станислас.
— Какое слияние?
— Твое слияние с Texaco.
— Кто уже такой этот Texaco?
— Дерек, ты что, издеваешься, в конце-то концов?
Он трясет передо мной «Уолл-стрит джорнал», перевернув ее как положено, и я ошалело гляжу на первую страницу, там действительно про мое слияние с Texaco, и первое, что мне приходит в голову, это что правление конечно же пытается взять под контроль мою компанию, и я шлю Оскару смску об увольнении следующего содержания: «Я сливаюсь, я сливаюсь, а мне ничего не говорят. Ты уволен», — а потом извиняюсь перед Станисласом за эту помеху нашему обеду, ведь тяжкое бремя обязанностей вынуждает меня постоянно пребывать в состоянии боевой готовности.
— Очень мне нравится эта музыка, — отвечает он, меняя тему, что меня несколько бесит, — это что?
— Просто старый сборник Café del mаr двухлетней давности. А конкретно эта песня… Талвин Сингх, «Traveller».
— Не устаю поражаться твоему, э-э… параллельному образованию.
— Спасибо.
— Так что, — спрашивает Станислас, — ты так и не работаешь?
— О, — теперь я меняю тему, — ты видел, ты видел, вон там Курт Кобейн, растянулся на пледе и просит милостыню, у него после смерти ни единой морщинки не прибавилось!
— Вы выбрали? — спрашивает официант.
— Да, — отвечает Станислас, — антипасти, будешь тоже антипасти? Да? Тогда антипасти на двоих, и еще пенне арабьята, не вермишель а-ля натюрель, а пенне арабьята, пенне арабьята, да-да. Мне, пожалуйста, пенне арабьята.