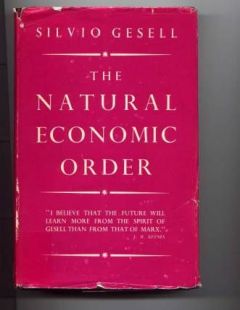Я стоял и любовался этим прекрасным видом и, слыша, что отворяется дверь, я не тронулся с места. Это был тюремный смотритель, который, увидав меня взобравшимся наверх, забыл, что я не могу, как крыса, уйти через решетку, вообразил, что я пытаюсь бежать, и, страшно испугавшись, быстро вскочил на кровать, несмотря на ломоту в бедрах, которая мучила его, и схватил меня за ногу, пронзительно крича.
— Да разве вы не видите, — сказал я ему, — что нельзя бежать — ведь тут решетка? Неужели вы не можете сообразить, что я взлез только из одного любопытства?
— Вижу, сьор, вижу, понимаю, но слезайте, говорю я вам, слезайте, еще соблазнитесь, пожалуй, улепетнуть.
И мне пришлось слезть, и я рассмеялся.
В окна боковых камер я познакомился с шестью другими политическими заключенными.
И вот я, предполагая, что буду находиться в большем одиночестве, чем прежде, попадаю в некотором роде в общество. В начале я досадовал на это, то ли потому, что долгая затворническая жизнь сделала меня нелюдимым, то ли потому, что неприятный исход моего знакомства с Джулиано меня сделал недоверчивым.
Тем не менее, те небольшие разговоры, которые мы вели, частью словами, частью знаками, в короткое время сделались для меня благодеянием, если не потому, что эти разговоры развеселяли меня, так, по крайней мере, потому, что они служили развлечением для меня. О своем сношении с Джулиано я не сказал ни с кем ни слова. Мы дали друг другу честное слово, что схороним в себе эту тайну. Если я и говорю о том на этих страницах, так это потому, что кому бы ни попались они на глаза, тому невозможно будет догадаться, кто из всех, находившихся в этой тюрьме, был Джулиано.
К новым вышеупомянутым знакомствам с товарищами по заключению присоединилось еще одно, которое было для меня самым приятным.
Из большого окна мне виден был кроме тюрем, бывших напротив меня, целый ряд крыш, украшенный трубами, террасками, колокольнями, куполами, который сливался в перспективе с морем и небом. В ближайшем ко мне доме (это был флигель патриархатства) жило одно доброе семейство, которое получило права на мою признательность, выказывая мне своими поклонами сострадание и жалость, которую я внушал им. Один поклон, одно слово любви несчастным — какая это великая милость!
Началось это с того, что там из окна выглянул мальчик, лет девяти или десяти, поднял ко мне свои ручонки, и я услыхал, что он кричит:
— Мама, мама, вон там наверху, в свинцовой тюрьме, посадили кого-то. О, бедный арестант, кто ты?
— Я Сильвио Пелико, — отвечал я.
Подбежал к окну и другой мальчик, постарше, и закричал:
— Ты Сильвио Пелико?
— Да, а вы, милые дети?
— Меня зовут Антонио С…, а моего брата — Джузеппе.
Потом он обернулся назад и сказал:
— Что еще надо спросить у него?
И какая-то женщина, наполовину скрытая от меня, думаю, что это была их мать, подсказала этим милым детям несколько ласковых слов, которые они мне и сказали, и я с нежностью поблагодарил их за то.
Эти разговоры были непродолжительны, и не нужно было злоупотреблять ими, чтобы не заставить тюремного смотрителя браниться, но всякий день повторялись эти разговоры, к великому моему утешению, на рассвете, в полдень и вечером. Когда зажигали огонь, эта женщина запирала окно, и дети кричали мне:
— Доброй ночи, Сильвио!
И она, делавшись в темноте посмелее, повторяла растроганным голосом:
— Доброй ночи, Сильвио! Мужайся!
Когда дети, бывало, завтракали или закусывали, они говорили мне:
— Ах, если бы мы могли дать тебе нашего кофе с молоком! Если бы мы могли дать тебе наших буццолаи! В тот день, когда ты будешь на свободе, вспомни о нас и приходи к нам! Мы дадим тебе славных, горячих буццолаи и много, много поцелуев!
В октябре месяце были для меня годовщины самых печальных происшествий. Я был арестован 13 числа этого месяца в предыдущем году. Кроме этого, много других печальных воспоминаний выпадали на этот месяц. За два года перед этим, в октябре месяце, по несчастной случайности, утонул в Тичино один прекрасный человек, человек с большими достоинствами, которого я очень уважал. За три года перед тем, в октябре, нечаянно застрелился из ружья Одоардо Брике, юноша, которого я любил, как своего сына. Во времена моей первой юности, в октябре, поразило меня другое тяжелое горе.
Хотя я и не суеверен, но меня приводило в уныние роковое стечение в этом месяце столь несчастных воспоминаний.
Разговаривая через окно с этими детьми и со своими товарищами по заключению, я притворялся веселым, но едва я входил в свое логово, невыразимая тяжесть горя камнем падала на сердце.
Я брался за перо, чтобы написать какие-нибудь стихи или что-нибудь другое в литературном роде, и непреодолимая сила, казалось, принуждала меня писать совсем другое. Что? Длинные письма, которые я не мог отсылать, длинные письма к моему дорогому семейству, в которых я изливал все мое сердце. Я писал их на столике и потом соскабливал их. Они были наполнены выражениями горячей любви, нежности, воспоминаниями о том счастье, каким я наслаждался в родной семье, окруженный отцом, матерью, братьями и сестрами, столь снисходительными, столь любящими. Тоска по родной семье, пламенное желание повидать ее внушали мне тысячи прочувствованных, страстных выражений. Я писал целыми часами, и все еще многое оставалось невысказанным, все еще много других мыслей, других чувств просилось на бумагу.
Это было повторением моей биографии, повторением, только в новой форме, морочившим меня картинами прошлого, это заставляло меня обращать мои взоры к тому счастливому времени, которого уже не было больше. Но, Боже мой, сколько раз, представив себе на бумаге самым живейшим образом, какой-нибудь момент моей наисчастливейшей жизни, увлекшись опьяненной фантазией до того, что мне казалось я нахожусь с теми лицами, которым пишу, сколько раз внезапно вспоминалось мне настоящее, перо выпадало из рук, и меня охватывал ужас! Это были по истине страшные минуты! Я и прежде иногда испытывал их, но никогда в такие минуты не содрогался так, как теперь.
Я приписывал эти содрогания, эту столь страшную тоску слишком большой возбужденности чувств, вызванной эпистолярной формой, какую я придавал своему писанию, и тем еще, что я обращал эти письма к лицам, столь дорогим для меня.
Я хотел заняться другим и не мог, я хотел бросить, по крайней мере, эпистолярную форму — и не мог. Я брал перо, садился писать — и в результате всегда оказывалось письмо, полное нежной любви и полное горя.
— Неужели уже больше не свободна моя воля? — говорил я себе. — Эта необходимость делать то, чего я вовсе не хотел бы, не есть ли помешательство моего разума? Ведь этого прежде со мной не случалось. Еще было бы это объяснимо в первые дни заточения, но теперь, когда я свыкся с тюремной жизнью, теперь, когда моя фантазия должна бы успокоиться относительно всего, теперь, когда я взрастил в себе столько философских и религиозных мыслей, как это я сделался рабом слепых желаний сердца, и ребячусь так? Займемся тогда другим.
Я старался тогда молиться или принуждал себя к изучению немецкого языка. Тщетное усилие! Я замечал, что опять я писал другое письмо.
Сущая болезнь было подобное состояние, не знаю, не должен ли я сказать, что это было нечто вроде сомнамбулизма. Без сомнения, это было результатом чрезмерной усталости, вызванной постоянным бодрствованием и размышлением.
Пошло еще дальше. Постоянная бессонница овладела мною, и ночи, большею частью, сделались лихорадочными. Тщетно переставал я пить по вечерам кофе: бессонница была та же самая.
Мне казалось, что во мне было два человека: один все хотел писать письма, другой хотел делать что-нибудь иное. «Хорошо, — говорил я — помиримся на том: пиши письма, но пиши их по-немецки, вот мы таким образом и будем учиться этому языку».
С этих пор я писал все на дурном немецком языке. По крайней мере я сделал таким образом некоторый успех в этом занятии.
Утром, после долгого бодрствования, истомленный мозг впадал в какой-то тяжелый сон. И снилось мне, или, скорее, бредил я тогда, что будто бы вижу я, как тоскует и убивается по мне отец, мать или кто-нибудь из близких. Я слышал их жалобные рыданья и скоро, сам рыдая, просыпался, содрогаясь от ужаса.
Иногда в эти короткие сны, казалось мне, что я слышу, как матушка утешает других, входя с ними в мою камеру, и обращается ко мне со священнейшими словами относительно долга безропотной покорности Всемогущему; и когда я все более и более ободрялся и веселел, видя мужество ее и других, она вдруг заливалась слезами, и все плакали. Никто не может знать, как надрывалось тогда мое сердце.