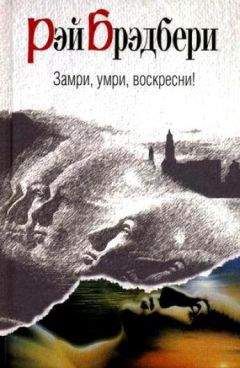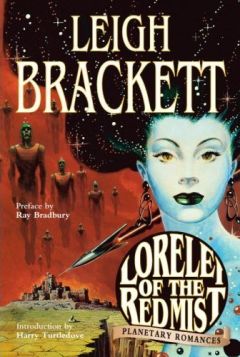— Ну и ну! — содрогнулся он.
— Тсс! — приказал шепот.
Топоток перебежал в ванную. Горевший там свет погас. Тишина. И только от ночника исходило слабое свечение.
Покрываясь испариной, он пытался вспомнить, с чего им пришла в голову такая блажь.
За левый край постели уцепилась костлявая рука: пошарила и тут же испарилась. У него на запястье громко тикали часы.
Так прошло, наверное, еще пять минут. Без всякой причины ему сдавило грудь. На переносице собрались морщины. Пальцы сами собой заскользили по одеялу, как будто надумали сбежать.
Костлявая лапа возникла с правой стороны. Да нет, показалось! Или взаправду?
В стенном шкафу напротив спальни что-то заворочалось. Дверцы медленно раскрылись в темноту. Внутрь прошмыгнуло какое- то существо, а может, оно затаилось там с вечера и только ждало своего часа — он так и смог определить. А створки смотрели в пропасть, бездонную, как звездное небо. В шкафу смутными тенями, как удавленники, покачивались пиджаки. Топот в ванной. Кошачья поступь у окна.
Он опять сел. Облизал губы. Едва не нарушил обет молчания. Покачал головой. Прошло не менее двадцати минут.
Где-то зашелестел слабый стон, потом глухой удаляющийся смешок. Опять стон... откуда? Из душевой кабины?
— Бет? — не выдержал он.
Ответа не было. Зато теперь в раковину капала вода. Кто-то отвернул кран.
— Бет? — еще раз позвал он и не узнал свой осипший голос. Где-то распахнулось окно. Прохладный ветер, как призрак, спрятался за занавеской.
— Бет,— слабо выговорил он. Ответа не последовало.
— Мне это не нравится,— сказал он. Тишина.
— Ни шевеления. Ни звука. Ни даже паука. Ничего.
— Бет? — чуть громче позвал он. Кругом — ни вздоха.
— Заканчивай свою игру. Молчание.
— Слышишь меня, Бет? Все тихо.
— Заканчивай игру. Капля упала в раковину.
— На сегодня хватит, Бет. Сквозняк из окна.
— Бет? Да отзовись же. Где ты? Ни звука.
— Ты цела?
На полу притаился ковер. Ночник едва теплился. В воздухе плясали невидимые пылинки.
— Бет... ты жива? Тишина.
— Бет? Молчание.
— Бет!
— О-о-ох... а-а-ах!..
Это был возглас, крик, вой.
Откуда-то метнулась чужая тень. На кровать навалилась темнота. Приземлилась на все четыре лапы.
— Попался! — грянул крик.
— Бет! — взмолился он.
— У-у-у...— взвыло исчадие тьмы.
Еще один прыжок — и оно рухнуло прямо ему на грудь. Шею сдавили холодные щупальца. Сверху маячил бледный овал. — Разинутый рот изрыгнул:
— Замри-умри!
— Бет! — закричал он.
И стал барахтаться, молотить руками, чтобы освободиться, но бледноликая нечисть вцепилась в него мертвой хваткой: ноздри раздувались, широко раскрытые глаза полыхали бешенством. Копна черных волос штормовой тучей накрыла ему лицо. Щупальца душили все сильнее, из ноздрей и разверстой пасти вылетал арктический холод, на грудь давила запредельная тяжесть чего-то невесомого — воздушная, как пух, и беспощадная, как кузнечный молот; вырваться не было никакой возможности, потому что паучьи лапы пригвоздили его к кровати; от мертвенной физиономии веяло таким злорадством, такой враждебностью, такой невиданной потусторонней мощью, что он невольно закричал.
— Нет! Нет! Не надо! Хватит! Хватит!
— Замри-умри! — взвизгнула пасть.
Это было диковинное существо. Женщина из будущего, из далеких лет, примятых колесом времен и событий, из грядущих годов, что затянуты тучами, отравлены тоской, убиты словами, заморожены, изломаны, лишены даже намека на любовь и знают одну лишь ненависть да еще смерть.
— Нет! Не смей! Прекрати!
У него брызнули слезы. Тело содрогнулось от рыданий.
Она отстранилась.
Ледяные щупальца, отпустив его шею, тотчас превратились в теплые, ласковые, нежные руки.
Все-таки это была Бет.
— Боже, боже, боже,— причитал он.— Нет, нет, нет!
— Ах, Чарльз, Чарли,— виновато заговорила она.— Прости. Я не хотела...
— Нет, хотела. Видит бог, ты этого хотела!
Он не мог с собой совладать.
— Да нет же! Ох, Чарли...— Ее тоже душили слезы.
Соскочив с кровати, она обежала спальню и щелкнула каждым выключателем. Но света все равно оказалось мало.
А его не отпускали рыдания. Она скользнула к нему под одеяло, прижала к груди его распухшее от слез лицо, крепко обняла, долго баюкала и гладила, целовала в лоб и не мешала выплакаться.
— Прости, Чарли. Ну прости меня. Я же не нарочно...
— Нет, ты нарочно!
— Это всего лишь игра!
— Игра! Ничего себе, игра! Игра, игра...— всхлипывал он.
Наконец он затих рядом с ней и снова ощутил тепло сестры, матери, подруги, возлюбленной. Сердце, прежде рвавшееся из груди, теперь билось почти ровно. Кровь спокойно пульсировала в жилах. На грудь больше не давила тяжесть.
— Ох, Бет, Бет,— тихо простонал он.
— Чарли,— сокрушенно откликнулась она, лежа с закрытыми глазами.
— Никогда больше так не делай.
— Не буду.
— Обещаешь? — всхлипнул он.
— Обещаю, клянусь.
— Ты растворилась, Бет,— это была не ты!
— Клянусь, верь мне, Чарли.
— Ну ладно,— смирился он.
— Ты меня простил, Чарли?
Он долго лежал не шелохнувшись, но в конце концов кивнул, будто решение далось ему нелегко.
— Простил.
— Я так виновата, Чарли. Давай постараемся уснуть. Свет выключим?
Молчание.
— Чарли, выключить свет?
— Не нужно.
— При свете мы не заснем, Чарли.
— Оставь несколько лампочек, пусть пока горят,— попросил он, не открывая глаз.
— Как скажешь.— Она прильнула к нему.— Пусть горят.
Он сделал глубокий судорожный вздох и ощутил легкий озноб.
Его трясло минут пять, но потом ее объятия, ласки и поцелуи прогнали дрожь.
Час спустя ей показалось, что он уснул; тогда она встала и погасила свет, оставив на всякий случай только одну лампочку — в ванной. Но стоило ей вернуться в постель, как он заворочался. Его голос, хрипловатый и растерянный, произнес:
— О Бет, я так тебя любил.
Она взвесила его слова.
— Поправка. Люблю.
— Люблю,— согласился он.
Она битый час лежала без сна, глядя в потолок.
Утром, намазывая маслом подсушенные хлебцы, он вдруг посмотрел на нее в упор. Она как ни в чем не бывало пережевывала бекон. Поймав этот взгляд, она усмехнулась.
— Бет, — позвал он.
— Да?
Как ей сказать? Ему стало холодно. Даже в лучах утреннего света спальня почему-то казалась сумрачной и тесной. Бекон был пережарен. Тосты подгорели. У кофе появился тошнотворный привкус. Лицо Бет заливала бледность. А он ощущал, как тяжело стучит его сердце — словно усталый кулак в чужую запертую дверь.
— Я...— начал он.— Нам...
Как сознаться, что его охватил страх? Ему привиделось начало конца. А за той последней чертой не будет никого и ничего — никогда в жизни.
— Ладно, пустяки,— бросил он.
— Еще через пять минут она спросила, ковыряя вилкой яичницу:
— Чарльз, хочешь, вечером опять поиграем? Теперь мой черед водить, а ты будешь прятаться, выскакивать из укрытия и кричать: «Замри-умри!»
У него перехватило дыхание.
— Нет.
Ему совсем не хотелось открывать в себе темные закоулки.
На глаза навернулись слезы.
— Нет, ни за что,— отрезал он.
(перевод Е. Петровой)
Решающих соображений было два: во-первых, она дожила до преклонных лет, а во-вторых, мистер Тэркелл обещал переправить ее к Всевышнему. Не зря же он приговаривал, поглаживая ее по руке:
— Миссис Беллоуз, моя ракета доставит нас в космос, а уж там мы с вами Его отыщем.
Вот такая наметилась перспектива. А ведь миссис Беллоуз всегда чуралась организованных групп. В прежние времена, стремясь осветить себе путь, чтобы сделать еще один робкий, неуверенный шаг вперед, она чиркала спички в темных закоулках и как-то забрела в дебри индуизма, туда, где над магическими шарами плавно скользили мечтательные, чуть подрагивающие ресницы мистиков. Расхаживала по луговым тропам вместе с индийскими философами-аскетами, которых привезли из дальних краев духовные дочери мадам Блаватской. Потом совершала паломничества в каменные джунгли Калифорнии, охотясь за провидцами-астрологами в их естественной среде обитания. Чтобы приобщиться к харизматическому ордену некой церкви, она даже отписала один из принадлежавших ей домов поразительной общине миссионеров, которые сулили своим адептам хрустальный огонь, золотой дым и возвращение домой по мановению великой и нежной десницы Бога.
Никто из духовных наставников, встреченных на этом пути, не смог поколебать веры миссис Беллоуз, хотя у нее на глазах кое-кого увозил в темноту полицейский фургон, а наутро их мрачные, лишенные романтического ореола лица уже смотрели с первых полос бульварных газетенок. Мир с ними не церемонился и старался упечь их за решетку, потому что они слишком много знали, — вот и весь сказ.