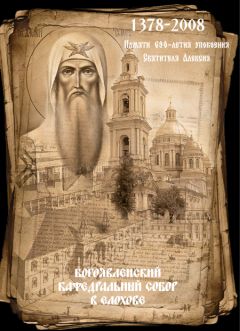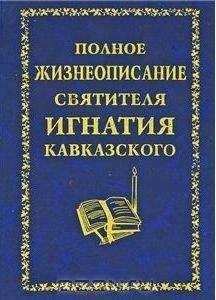Он сунул руку за лацкан потертого, лоснящегося на сгибах пальто — и вытащил и протянул отцу Михаилу — бумажник: толстый, размером с книгу небольшого формата, из зеленоватой блестящей кожи под крокодила (а может быть, и крокодила?), обжатый медными кантами по углам, — кричаще неуместный в его огромной, корявой, неотмываемой от грязного масла руке…
Отец Михаил, не понимая, смотрел на него.
— Вот… нашел.
Отец Михаил взял бумажник — потому что Алексей Иванович тыкал им чуть не ему в лицо, — бумажник был сухо-скользкий, тяжелый, тугой, — коротко осмотрел его и протянул Алексею Ивановичу.
— Да вы посмотрите!
— Это не мое, — кротко — чтобы не обидеть,— сказал отец Михаил. Алексей Иванович взял подрагивающей рукою бумажник, осторожно открыл его, двумя рубчатыми заскорузлыми пальцами залез в гармошку многочисленных отделений, — наполовину, углом, вытащил серовато-зеленую пачку… долларов.
— Вот… три тыщи… в телефоне, на полке… — прохрипел Алексей Иванович, глядя на деньги, — и вдруг с ужасом, с мольбою, с тоской уставился на отца Михаила. — Что с ними делать-то, отец Михаил?!
Отец Михаил — дрогнул. Он знал, что лечение Маруси требовало денег, больших денег, — проклятых денег, которых у Алексея Ивановича и его одинокой дочери не было. Просто так, без всякого продолжения — нельзя было думать о продолжении, — он подумал об этом. Он стоял и молча смотрел на бумажник, своим видом как будто кричащий… нет, скорее даже снисходительно уведомляющий — о богатстве и силе его владельца. В целлулоидном окошке поблескивала разноцветная карточка с фотографией вывалившей по-козьи расходящиеся груди девицы, надписью ДОСУГ и телефонными номерами под ней; груди были зримо тяжелые, тугие, лоснистые, с румяными луковицами огромных сосков; девица улыбалась — одновременно дерзко и робко, похотливо и неприступно, отталкивая и зовя… великая блудница на звере багряном, с чашей в руке своей, наполненной мерзостями и нечистотою блудодейства ее, упоенная кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых… Пышущая жаром, соромно-прекрасная, упивающаяся своим всемогуществом, гордая своим всеоскверняющим унижением плоть смеялась в лицо отцу Михаилу, смеялась над памятью тысяч мучеников, смеялась — над Богом… Отец Михаил резко поднял глаза; в нем вспыхнуло раздражение против вторгшегося с этой кастью в его жизнь человека, — но, увидев его лицо, он сразу и виновато остыл.
— Что же делать-то?… — жалко спросил Алексей Иванович.
Отец Михаил глубоко вздохнул. Он знал, что делать, и знал, что надо сказать, — но еще не нашел слов, которыми надо сказать. Алексей Иванович вдруг сморщился, быстро перекрестился, вновь засунул пальцы в бумажник — и, как будто ожегшись, выдернул из него визитную карточку.
— Вот…
Отец Михаил взял карточку. Совместное предприятие “Гиперкон”. Свирский Александр Дмитриевич. Адрес, телефон… да и в этом ли дело? Отец Михаил отдал карточку. Само промедление — уже грех, причем грех, конечно, больше на пастыре, чем на пасомом. Он молчит и этим молчанием лишь усугубляет соблазн. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня… Годами Алексей Иванович не дитя — но он ли не малый! Грех во спасение — пустейшая, до титла мирская фраза, неверно понятый церковнославянский текст. Не человеческое дело решать, где спасение; во спасение можно делать только одно — следовать предначертаниям Божьим. Отец Михаил опустил глаза — на бесформенные, разбитые чоботы Алексея Ивановича… посмотрел на Бога — и твердо сказал — про себя:
“Алексей Иванович. Заповедано — не кради. Кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Молитесь и верьте; ибо если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей: перейди оттуда туда, — она перейдет. Просите, и дано будет вам; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и всякому стучащему отворят… Алексей Иванович, деньги надо вернуть”.
Отец Михаил поднял глаза.
Алексей Иванович с ужасом смотрел на него.
Отец Михаил сказал:
— Это вам самому решать, Алексей Иванович. — Помолчал. — …Неисповедимы пути, по которым снисходит к нам благостыня Господня…
Алексей Иванович заморгал, быстро с поклоном перекрестился — и вышел почти бегом… Отец Михаил очнулся. Что он сказал?…
Ведь он — усомнился в Боге!…
Отец Михаил бросился к образу, громко шепча молитву. Человек, не чувствуя в себе достаточно сил для борьбы с соблазном, обратился к нему за помощью. Вопрос был самый простой: что делать с найденными деньгами? Ответ был один: вернуть. Он, Михаил, не мог усомниться в этом… но усомнился?! “Нет, нет, нет! — восклицал он про себя, глядя снизу вверх на лицо Иисуса, — Ты мог подумать, что я не верю Тебе… что я пренебрегаю Тобой, — но Ты же видел, что всё было не так…” В ту минуту, когда он дал ответ Алексею Ивановичу, он не знал, почему произнес именно эти, а не заготовленные слова, — за него говорило сердце; он видел, что Алексей Иванович колеблется, что его мучит соблазн, что он надеется, что неправедные деньги помогут Марусе, — наверное, он пожалел Алексея Ивановича, чувствуя, каким тяжелым ударом будет для него совет их вернуть…
Растерянный и расстроенный, отец Михаил опустился на стул. Нет, он не крал… и не помог украсть, — он просто сказал: “Это вам самому решать, Алексей Иванович". Соблазн? Кто соблазнит… Но Алексей Иванович не дитя, он вдвое старше его; и душа укрепляется в самостоятельной борьбе с искушениями, а не в слепом следовании за пастырем. Пастырь помощник, а не поводырь. Да, но потом он еще сказал… что он сказал? Неисповедимы пути Господни… неисповедимы пути, по которым Господь идет к нам на помощь. Так?! Так… Отец Михаил встал. Это соблазн? Это не соблазн, это прямое указание пастыря: “укради”.
Отец Михаил перекрестился. “Господи… без дурного умысла, не по воле своей!” В мятущейся душе его шевельнулось: “Всё равно эти деньги пошли бы на блуд…”. Не суди! не суди! — грубо оборвал он себя — и вдруг почувствовал угрызения совести: совесть обычно пробуждалась в нем раньше, чем он вспоминал Закон (в огромном большинстве случаев он его вовсе не вспоминал), но сегодня, до сей минуты, совесть его почему-то молчала. Это было странно — Закон нарушен, а совесть его молчит, — и это было страшно, потому что означало, что он внутренне, для души, для жизни своей не признает истинности Закона… но как он может не признавать заповеди “не укради”?! Но ему уже было стыдно, стыдно, — стыд нарастал лавиной после его механического укоряющего “не суди”… Не суди! — вот закон, который затмило его сочувствие Алексею Ивановичу и отвращение к неизвестному ему коммерсанту; вот закон, который по-другому осветил ему первый и пробудил его совесть! Мысли посыпались градом камней; отец Михаил стоял красный, с опущенной головой, не глядя в лицо Иисусу. А вдруг у этого человека тоже больная жена? А вдруг эта карточка попала к нему вообще случайно? А вдруг его дети в беде? А вдруг у его предприятия нет ничего, кроме долгов, и само предприятие — три человека с печатью? А вдруг он вез эти деньги, чтобы расплатиться за что-то, что жизненно важно ему? — кто будет просто так возить в кошельке три тысячи долларов? А вдруг… да и не в этом дело! Не кради и не суди, человек! А ты, не зная даже, судил!
…Происшествие это доставило отцу Михаилу немало тяжелых минут. На другой день он исповедался отцу Филофею. Старик выслушал его, покивал слабой своей головой и сказал:
— Отпускаю ти, чадо, только грех, что соблазнился судить, что угодно, а что неугодно Господу в столь затруднительном случае. В прочем же греха не усматриваю. Ты ведь сказал пасомому, что ему самому решать?
— Сказал, отец Филофей.
— Вот и хорошо. А что неисповедимы пути, по которым, как ты сказал, снисходит к нам благостыня Господня, — то разве не так?…
После этого отец Михаил успокоился; к тому же в один из ближайших дней он в первый раз повстречался на исповеди с Наташей — и новые, незнакомые ему чувства почти без остатка захватили его… Алексей же Иванович после того пропал, и отец Михаил не видел его даже в церкви — да и, по совести говоря, не хотел встречи с ним: он боялся и просто того, что Маруся умрет, — ему было жалко и Марусю, и Алексея Ивановича, — и того, что Алексей Иванович не вернул найденных денег (а скорее всего не вернул), а Маруся умерла, и, напротив того, что Алексей Иванович деньги вернул, а Маруся всё равно умерла, — и он страшно, опять же упрекая, презирая себя за суетность своих мыслей и чувств, боялся укора — даже не так в словах, как в глазах Алексея Ивановича… Но время шло, и ни Алексея Ивановича, ни… отпеванья Маруси не было, — значит, Маруся была жива; отец Михаил был этому рад — и понемногу начал уже забывать о Марусе и Алексее Ивановиче.