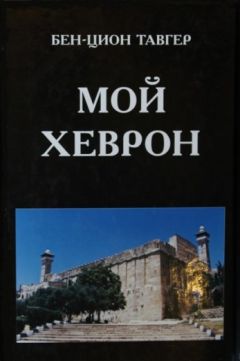Каждый ученый-пиполог знает ныне, что больше всего на свете вуайерист боится, как бы его фантазия не обрела реальность. Он не хочет, чтобы женщина превратилась в настоящую женщину из плоти и крови. Он предпочитает, чтобы женщина оставалась нереальной грезой, недоступным объектом желания, который маячит за стеклом. Вопрос «быть или не быть», мучивший неуверенного в себе шекспировского героя, для вуайериста не актуален. Он хочет только грезить, и больше ничего.
Как раз в те дни, когда я искал Лолу, чтобы она отпустила меня на свободу, на моей родине стала популярной одна сказка. В ней говорилось о некоем короле и его несметном войске. Всю жизнь король вел войны, но в конце жизни, возможно даже в самые последние минуты перед смертью, неожиданно понял, что в действительности он сторонник мира. И как раз в тот день, когда он это понял, один вообразивший себя мессией придурок взял да и продырявил его из пистолета. И вот весь народ (за исключением той его половины, которая за народ не считается) погрузился в глубокий траур. Люди зажигали свечи на площади, горевали по убитому королю и оплакивали рухнувшие вместе с ним надежды на мир. Эта прекрасная поэтическая сказка меня очень умилила. Потоки слез, затопившие последние остатки разума моих соотечественников, были по-настоящему трогательными. Однако как специалист-пиполог я знал, что оплакивание мертвого короля — не более чем лицемерное соблюдение приличий. Все эти плакальщики, со всеми их свечами, в действительности и уничтожили его семя, оттолкнули руку, протянутую к миру. А траурная вакханалия была лишь еще одной формой вуайеристского онанизма. Под маской скорби проглядывала плохо скрываемая глуповатая радость.
Я понял, что с надеждами на мир покончено навсегда.
Тем временем я продолжал искать Лолу, полагая, что будет лучше, если я сам сообщу ей о своей предстоящей женитьбе. Не хотелось, чтобы это сделал кто-нибудь из моих друзей. Я боялся ее. Боялся, что она подстережет меня где-нибудь за крутым поворотом. Где бы я ни находился, Лола все еще способна ограбить меня и оставить с разбитым сердцем. Она должна гарантировать мне полную свободу. Я просто обязан был ее найти.
Однако человек предполагает, а бог располагает. Все мои попытки разыскать ее окончились ничем. Я так и не смог напасть на ее след. Она исчезла. Лишь позднее я узнал, что в те дни она находилась в Индии. Как и многие другие бывшие мои еврейские соотечественники, она пережила духовное прозрение.
«Чем привлек ее Восток? — недоумевал я. — Что у Лолы общего с Индией?»
Я, разумеется, очень уважаю духовные искания и с огромным пиететом отношусь к тем, кто ради них готов отправиться на край света. И все же массовое увлечение Индией так и осталось для меня неразрешимой загадкой.
Иудаизм, религиозная колыбель моего народа, является универсальным источником вдохновения для всех религий откровения. Это понимает любой верующий христианин и мусульманин. Только мои собратья по крови никак не могут этого усвоить и толпами отправляются на поклон к буддистским монахам. Я нисколько не сомневаюсь, что сам по себе буддизм прекрасен. Более того. Я считаю, что все великие религии (как и философия) стремятся добраться до самых глубинных корней бытия и смысла. Но тогда что же заставляло стольких людей отправляться в далекие странствия?
Думаю, в первую очередь это произошло потому, что главными проповедниками слова Божия в тот период на Сионе[20] были люди, вся мудрость которых ограничивалась конструкцией их имен. У каждого из них было по два собственных имени: раввин Моше Давид, великий знаток Торы Ицхак Йосеф, гаон[21] Амнон Яков. Этими двойными именами они как бы противопоставляли себя обычным людям. В таких фамилиях, как Лейбович, Бузагло, Иоффе, Шохет, Маркович, Абутбуль, Кахалани и им подобные, есть нечто абстрактное, коллективное, анонимное. Двойные же имена, напротив, придавали дополнительную конкретизацию, как бы выделяли человека из толпы. Однако, к величайшему сожалению, несмотря на все свои старания, раввины новой формации так и не сумели завоевать сердца аристократов духа вроде Лолы, которые не только жаждали духовного возрождения, но и хотели испытать его, так сказать, прямо здесь и сейчас. В результате и начались все эти увлечения иностранными религиозными веяниями. Само по себе это даже похвально. Но, как объяснил мне мой близкий друг, ставший впоследствии одним из лучших джазовых барабанщиков своего поколения, евреями движут только материальные стимулы и интересы.
У себя на родине жаждавшие духовности заблудшие дети Сиона искренне и с гордостью считали себя просвещенными носителями прогресса и представителями западной цивилизации. Некоторые в своем прогрессизме доходили даже до того, что слушали Вагнера в Йом Кипур.[22] Однако когда они прибыли в Европу, наводненную различными западными духовными течениями, то с удивлением обнаружили, что европейцы воспринимают их как людей примитивных, невежественных, бескультурных и бездуховных. Мои обрезанные собратья так и не смогли усвоить ни одного из тех учений, которые проповедуют свободу и духовное раскрепощение и отрицают самоуничижение человека перед лицом Бога, каким бы прекрасным он сам по себе ни был.
Отвергнутые западной культурой, заблудшие стали искать духовную альтернативу, и таковая очень быстро отыскалась. Они открыли для себя Восток. В первую очередь он привлек их своими чудесами и тайнами. Но была и еще одна, более прозаическая причина. В нищей Индии израильтяне чувствовали себя сказочно богатыми. Одноразового денежного пособия, которое каждый израильский солдат получает при демобилизации из армии, с лихвой хватало на то, чтобы три года безбедно прожить в Индии со всеми ее дворцами, святилищами и храмами. Не говоря уже о том, что индийцы по наивности относились к израильтянам с почтением, как к представителям западной цивилизации.
При всем своем незаурядном уме, Лола тоже не устояла против течения и отправилась на Восток. Несколько лет она моталась по храмам и святым местам, обкуривалась до беспамятства, носила лохмотья, трахалась с йогами, болтала на хинди и все время ускользала от меня. Потому что уж где-где, а в Индии я ее не искал.
В один прекрасный день я сказал себе «хватит», прекратил поиски и решил, что нам с Евой пора заняться производством детей, не дожидаясь разрешения от Лолы. Так мы, собственно, и сделали.
Как-то раз, летним августовским вечером, вернувшись домой из университета, я застал у себя Еву. Оказалось, что она решила устроить праздничный ужин на балконе. Мы сели за стол, подняли бокалы, чокнулись, и тут она торжественно сообщила мне, что беременна. В ее матке начало вызревать новое поколение вуайеристов.
Прошло какое-то время, и Ева стала округляться. Живот, выпиравший из ее костлявого тела, с каждым днем становился все больше и больше.
По совету медсестры, я перестал заниматься с Евой сексом. Ее уникальные гидрологические способности представляли серьезную опасность для младенца, и я приложил максимум усилий, чтобы устранить какой бы то ни было намек на чувственность в наших отношениях. Я хотел, чтобы все свои любовные соки Ева приберегла для плескавшегося в ее утробе ребенка.
Как известно, женщины во время беременности становятся крайне капризными, и когда у них возникают сексуальные желания, их очень трудно утихомирить. Поэтому я постарался перевести наши отношения в чисто духовное русло и загрузил мозг Евы до предела. Мы обсуждали с ней философские проблемы, решали математические задачи, разгадывали идиотские кроссворды, которые я отыскивал в журналах, и играли в различные интеллектуальные игры.
Каждый вечер мы совершали полуторачасовую прогулку по купающейся в зелени улице Шиллергартен (на западе она упирается в улицу, на которой жили мы) и во время прогулки болтали о всякой всячине. Планировали, как обставим детскую комнату, обсуждали перспективы пипологических исследований, говорили об упадке гуманитарных наук, о развале западной демократии и так далее и тому подобное.
Ева — типичная немка. Она была буквально напичкана сокровищами континентальной культуры, а я, увы, этим похвастаться не мог. Я всячески старался наверстать упущенное, много читал, но все равно выглядел на фоне других европейцев умственно отсталым. Когда я был ребенком, никто из моих учителей не потрудился дать мне классическое образование, поэтому европейские языки и европейская философия остались за пределами моего кругозора. Сколько я ни пытался самостоятельно изучать европейских мыслителей, по сути своей их учения были мне чуждыми. Таким образом, Ева стала для меня не только возлюбленной и матерью моего будущего ребенка, но еще и моим учебником. Например, она объяснила мне, что мои идеи в той или иной форме уже высказывались ранее другими мыслителями.